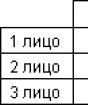Деление литературы на роды. Литературные роды и виды Роды, виды и жанры художественной словесности
Роды литературы
§ 1. Деление литературы на роды
Словесно-художественные произведения издавна принято объединять в три большие группы, именуемые литературными родами. Это эпос, драма и лирика. Хотя и не все созданное писателями (особенно в XX в.) укладывается в эту триаду, она поныне сохраняет свою значимость и авторитетность в составе литературоведения.
О родах поэзии рассуждает Сократ в третьей книге трактата Платона «Государство». Поэт, говорится здесь, может, во-первых, впрямую говорить от своего лица, что имеет место «преимущественно в дифирамбах» (по сути это важнейшее свойство лирики); во-вторых, строить произведение в виде «обмена речами» героев, к которому не примешиваются слова поэта, что характерно для трагедий и комедий (такова драма как род поэзии); в-третьих, соединять свои слова со словами чужими, принадлежащими действующим лицам (что присуще эпосу): «И когда он (поэт-В. X.) приводит чужие речи, и когда он в промежутках между ними выступает от своего лица, это будет повествование». Выделение Сократом и Платоном третьего, эпического рода поэзии (как смешанного) основано на разграничении рассказа о происшедшем без привлечения речи действующих лиц (др. - гр. diegesis) и подражания посредством поступков, действий, произносимых слов (др. - гр. mimesis).
Сходные суждения о родах поэзии высказаны в третьей главе «Поэтики» Аристотеля. Здесь коротко охарактеризованы три способа подражания в поэзии (словесном искусстве), которые и являются характеристиками эпоса, лирики и драмы: «Подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чем-то отдельном от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам собой, не изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых лиц как действующих и деятельных».
В подобном же духе - как типы отношения высказывающегося («носителя речи») к художественному целому - роды литературы неоднократно рассматривались и позже, вплоть до нашего времени. Вместе с тем в XIX в. (первоначально - в эстетике романтизма) упрочилось иное понимание эпоса, лирики и драмы: не как словесно-художественных форм, а как неких умопостигаемых сущностей, фиксируемых философскими категориями: литературные роды стали мыслиться как типы художественного содержания. Тем самым их рассмотрение оказалось отторгнутым от поэтики (учения именно о словесном искусстве). Так, Шеллинг лирику соотнес с бесконечностью и духом свободы, эпос - с чистой необходимостью, в драме же усмотрел своеобразный синтез того и другого: борьбу свободы и необходимости. А Гегель (вслед за Жан-Полем) характеризовал эпос, лирику и драму с помощью категорий «объект» и «субъект»: эпическая поэзия - объективна, лирическая - субъективна, драматическая же соединяет эти два начала. Благодаря В.Г. Белинскому как автору статьи «Разделение поэзии на роды и виды» (1841) гегелевская концепция (и соответствующая ей терминология) укоренились в отечественном литературоведении.
В XX в. роды литературы неоднократно соотносились с различными явлениями психологии (воспоминание, представление, напряжение), лингвистики (первое, второе, третье грамматическое лицо), а также с категорией времени (прошлое, настоящее, будущее).
Однако традиция, восходящая к Платону и Аристотелю, себя не исчерпала, она продолжает жить. Роды литературы как типы речевой организации литературных произведений - это неоспоримая надэпохальная реальность, достойная пристального внимания.
На природу эпоса, лирики и драмы проливает свет теория речи, разработанная в 1930-е годы немецким психологом и лингвистом К. Бюлером, который утверждал, что высказывания (речевые акты) имеют три аспекта. Они включают в себя, во-первых, сообщение о предмете речи (репрезентация); во-вторых, экспрессию (выражение эмоций говорящего); в-третьих, апелляцию (обращение говорящего к кому-либо, которое делает высказывание собственно действием). Эти три аспекта речевой деятельности взаимосвязаны и проявляют себя в различного типа высказываниях (в том числе - художественных) по-разному. В лирическом произведении организующим началом и доминантой становится речевая экспрессия. Драма акцентирует апеллятивную, собственно действенную сторону речи, и слово предстает как своего рода поступок, совершаемый в определенный момент развертывания событий. Эпос тоже широко опирается на апеллятивные начала речи (поскольку в состав произведений входят высказывания героев, знаменующие их действия). Но доминируют в этом литературном роде сообщения о чем-то внешнем говорящему.
С этими свойствами речевой ткани лирики, драмы и эпоса органически связаны (и именно ими предопределены) также иные свойства родов литературы: способы пространственно-временной организации произведений; своеобразие явленности в них человека; формы присутствия автора; характер обращенности текста к читателю. Каждый из родов литературы, говоря иначе, обладает особым, только ему присущим комплексом свойств.
Деление литературы на роды не совпадает с ее членением на поэзию и прозу (см. с. 236–240). В обиходной речи лирические произведения нередко отождествляются с поэзией, а эпические - с прозой. Подобное словоупотребление неточно. Каждый из литературных родов включает в себя как поэтические (стихотворные), так и прозаические (нестихотворные) произведения. Эпос на ранних этапах искусства был чаще всего стихотворным (эпопеи античности, французские песни о подвигах, русские былины и исторические песни и т. п.). Эпические в своей родовой основе произведения, написанные стихами, нередки и в литературе Нового времени («Дон Жуан» Дж. Н.Г. Байрона, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова). В драматическом роде литературы также применяются как стихи, так и проза, порой соединяемые в одном и том же произведении (многие пьесы У. Шекспира). Да и лирика, по преимуществу стихотворная, иногда бывает прозаической (вспомним тургеневские «Стихотворения в прозе»).
В теории литературных родов возникают и более серьезные терминологические проблемы. Слова «эпическое» («эпичность»), «драматическое» («драматизм»), «лирическое» («лиризм») обозначают не только родовые особенности произведений, о которых шла речь, но и другие их свойства. Эпичностью называют величественно-спокойное, неторопливое созерцание жизни в ее сложности и многоплановости широту взгляда на мир и его приятие как некоей целостности. В этой связи нередко говорят об «эпическом миросозерцании», художественно воплотившемся в гомеровских поэмах и ряде позднейших произведений («Война и мир» Л.Н. Толстого). Эпичность как идейно-эмоциональная настроенность может иметь место во всех литературных родах - не только в эпических (повествовательных) произведениях, но и в драме («Борис Годунов» а. С. Пушкина) и лирике (цикл «На поле Куликовом» А.А. Блока). Драматизмом принято называть умонастроение, связанное с напряженным переживанием каких-то противоречий, с взволнованностью и тревогой. И наконец, лиризм - это возвышенная эмоциональность, выраженная в речи автора, рассказчика, персонажей. Драматизм и лиризм тоже могут присутствовать во всех литературных родах. Так, исполнены драматизма роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина», стихотворение М.И. Цветаевой «Тоска по родине». Лиризмом проникнуты роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад», рассказы и повести И. А. Бунина. Эпос, лирика и драма, таким образом, свободны от однозначно-жесткой привязанности к эпичности, лиризму и драматизму как типам эмоционально-смыслового «звучания» произведений.
Оригинальный опыт разграничения этих двух рядов понятий (эпос - эпическое и т. д.) в середине нашего века предпринял немецкий ученый Э. Штайгер. В своей работе «Основные понятия поэтики» он охарактеризовал эпическое, лирическое, драматическое как явления стиля (типы тональности - Tonart), связав их (соответственно) с такими понятиями, как представление, воспоминание, напряжение. И утверждал, что каждое литературное произведение (независимо оттого, имеет ли оно внешнюю форму эпоса, лирики или драмы) соединяет в себе эти три начала: «Я не уясню лирического и драматического, если буду их связывать с лирикой и драмой».
§ 2. Происхождение литературных родов
Эпос, лирика и драма сформировались на самых ранних этапах существования общества, в первобытном синкретическом творчестве. Происхождению литературных родов посвятил первую из трех глав своей «Исторической поэтики» А.Н. Веселовский, один из крупнейших русских историков и теоретиков литературы XIX в. Ученый доказывал, что литературные роды возникли из обрядового хора первобытных народов, действия которого являли собой ритуальные игры-пляски, где подражательные телодвижения сопровождались пением - возгласами радости или печали. Эпос, лирика и драма трактовались Веселовским как развившиеся из «протоплазмы» обрядовых «хорических действий».
Из возгласов наиболее активных участников хора (запевал, корифеев) выросли лиро-эпические песни (кантилены), которые со временем отделились от обряда: «Песни лирико-эпического характера представляются первым естественным выделением из связи хора и обряда». первоначальной формой собственно поэзии явилась, стало быть, лиро-эпическая песня. На основе таких песен впоследствии сформировались эпические повествования. А из возгласов хора как такового выросла лирика (первоначально групповая, коллективная), со временем тоже отделившаяся от обряда. Эпос и лирика, таким образом, истолкованы Веселовским как «следствие разложения древнего обрядового хора». Драма, утверждает ученый, возникла из обмена репликами хора и запевал. И она (в отличие от эпоса и лирики), обретя самостоятельность, вместе с тем «сохранила весь синкретизм» обрядового хора и явилась неким его подобием.
Теория происхождения литературных родов, выдвинутая Веселовским, подтверждается множеством известных современной науке фактов о жизни первобытных народов. Так, несомненно происхождение драмы из обрядовых представлений: пляска и пантомима постепенно все активнее сопровождались словами участников обрядового действия. Вместе с тем в теории Веселовского не учтено, что эпос и лирика могли формироваться и независимо от обрядовых действий. Так, мифологические сказания, на основе которых впоследствии упрочились прозаические легенды (саги) и сказки, возникли вне хора. Они не пелись участниками массового обряда, а рассказывались кем-либо из представителей племени (и, вероятно, далеко не во всех случаях подобное рассказывание было обращено к большому числу людей). Лирика тоже могла формироваться вне обряда. Лирическое самовыражение возникало в производственных (трудовых) и бытовых отношениях первобытных народов. Существовали, таким образом, разные пути формирования литературных родов. И обрядовый хор был одним из них.
В эпическом роде литературы (др. - гр. epos - слово, речь) организующим началом произведения является повествование о персонажах (действующих лицах), их судьбах, поступках, умонастроениях, о событиях в их жизни, составляющих сюжет. Это - цепь словесных сообщений или, проще говоря, рассказ о происшедшем ранее. Повествованию присуща временная дистанция между ведением речи и предметом словесных обозначений. Оно (вспомним Аристотеля: поэт рассказывает «о событии как о чем-то отдельном от себя») ведется со стороны и, как правило, имеет грамматическую форму прошедшего времени. Для повествующего (рассказывающего) характерна позиция человека, вспоминающего об имевшем место ранее. Дистанция между временем изображаемого действия и временем повествования о нем составляет едва ли не самую существенную черту эпической формы.
Слово «повествование» в применении к литературе используется по-разному. В узком смысле - это развернутое обозначение словами того, что произошло однажды и имело временную протяженность. В более широком значении повествование включает в себя также описания, т. е. воссоздание посредством слов чего-то устойчивого, стабильного или вовсе неподвижного (таковы большая часть пейзажей, характеристики бытовой обстановки, черт наружности персонажей, их душевных состояний). Описаниями являются также словесные изображения периодически повторяющегося. «Бывало, он еще в постеле: / К нему записочки несут», - говорится, например, об Онегине в первой главе пушкинского романа. Подобным же образом в повествовательную ткань входят авторские рассуждения, играющие немалую роль у Л. Н. Толстого, А. Франса, Т. Манна.
В эпических произведениях повествование подключает к себе и как бы обволакивает высказывания действующих лиц - их диалоги и монологи, в том числе внутренние, с ними активно взаимодействуя, их поясняя, дополняя и корректируя. И художественный текст оказывается сплавом повествовательной речи и высказываний персонажей.
Произведения эпического рода сполна используют арсенал художественных средств, доступных литературе, непринужденно и свободно осваивают реальность во времени и пространстве. При этом они не знают ограничений в объеме текста. Эпос как род литературы включает в себя как короткие рассказы (средневековая и возрожденческая новеллистика; юмористика О’Генри и раннего А.П. Чехова), так и произведения, рассчитанные на длительное слушание или чтение: эпопеи и романы, охватывающие жизнь с необычайной широтой. Таковы индийская «Махабхарата», древнегреческие «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси, «Унесенные ветром» М. Митчелл.
Эпическое произведение может «вобрать» в себя такое количество характеров, обстоятельств, событий, судеб, деталей, которое недоступно ни другим родам литературы, ни какому-нибудь иному виду искусства. При этом повествовательная форма способствует глубочайшему проникновению во внутренний мир человека. Ей вполне доступны характеры сложные, обладающие множеством черт и свойств, незавершенные и противоречивые, находящиеся в движении, становлении, развитии.
Эти возможности эпического рода литературы используются далеко не во всех произведениях. Но со словом «эпос» прочно связано представление о художественном воспроизведении жизни в ее целостности, о раскрытии сущности эпохи, о масштабности и монументальности творческого акта. Не существует (ни в сфере словесного искусства, ни за его пределами) групп художественных произведений, которые бы так свободно проникали одновременно и в глубину человеческого сознания и в ширь бытия людей, как это делают повести, романы, эпопеи.
В эпических произведениях глубоко значимо присутствие повествователя. Это - весьма специфическая форма художественного воспроизведения человека. Повествователь является посредником между изображенным и читателем, нередко выступая в роли свидетеля и истолкователя показанных лиц и событий.
Текст эпического произведения обычно не содержит сведений о судьбе повествующего, об его взаимоотношениях с действующими лицами, о том) когда, где и при каких обстоятельствах ведет он свой рассказ, об его мыслях и чувствах. Дух повествования, по словам Т. Манна, часто бывает «невесом, бесплотен и вездесущ»; и «нет для него разделения между «здесь» и «там». А вместе с тем речь повествователя обладает не только изобразительностью, но и выразительной значимостью; она характеризует не только объект высказывания, но и самого говорящего. В любом эпическом произведении запечатлевается манера воспринимать действительность, присущая тому, кто повествует, свойственные ему видение мира и способ мышления. В этом смысле правомерно говорить об образе повествователя. Понятие это прочно вошло в обиход литературоведения благодаря Б. М. Эйхенбауму, В.В. Виноградову, М.М. Бахтину (работы 1920-х годов). Суммируя суждения этих ученых, Г.А. Гуковский в 1940-е годы писал: «Всякое изображение в искусстве образует представление не только об изображенном, но и об изображающем, носителе изложения Повествователь - это не только более или менее конкретный образ но и некая образная идея, принцип и облик носителя речи, или иначе - непременно некая точка зрения на излагаемое, точка зрения психологическая, идеологическая и попросту географическая, так как невозможно описывать ниоткуда и не может быть описания без описателя».
Эпическая форма, говоря иначе, воспроизводит не только рассказываемое, но и рассказывающего, она художественно запечатлевает манеру говорить и воспринимать мир, а в конечном счете - склад ума и чувств повествователя. Облик повествователя обнаруживается не в действиях и не в прямых излияниях души, а в своеобразном повествовательном монологе. Выразительные начала такого монолога, являясь его вторичной функцией, вместе с тем очень важны.
Не может быть полноценного восприятия народных сказок без пристального внимания к их повествовательной манере, в которой за наивностью и бесхитростностью того, кто ведет рассказ, угадываются веселость и лукавство, жизненный опыт и мудрость. Невозможно почувствовать прелесть героических эпопей древности, не уловив возвышенного строя мыслей и чувств рапсода и сказителя. И уж тем более немыслимо понимание произведений А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и И. С. Тургенева, А. П. Чехова и И. А. Бунина, М. А. Булгакова и А. П. Платонова вне постижения «голоса» повествователя. Живое восприятие эпического произведения всегда связано с пристальным вниманием к той манере, в которой ведется повествование. Чуткий к словесному искусству читатель видит в рассказе, повести или романе не только сообщение о жизни персонажей с ее подробностями, но и выразительно значимый монолог повествователя.
Литературе доступны разные способы повествования. Наиболее глубоко укоренен и Представлен тип повествования, при котором между персонажами и тем, кто сообщает о них, имеет место, так сказать, абсолютная дистанция. Повествователь рассказывает о событиях с невозмутимым спокойствием. Ему внятно все, присущ дар «всеведения». И его образ, образ существа, вознесшегося над миром, придает произведению колорит максимальной объективности. Многозначительно, что Гомера нередко уподобляли небожителям-олимпийцам и называли «божественным».
Художественные возможности такого повествования рассмотрены в немецкой классической эстетике эпохи романтизма. В эпосе «нужен рассказчик, - читаем мы у Шеллинга, - который невозмутимостью своего рассказа постоянно отвлекал бы нас от слишком большого участия к действующим лицам и направлял внимание слушателей на чистый результат». И далее: «Рассказчик чужд действующим лицам он не только превосходит слушателей своим уравновешенным созерцанием и настраивает своим рассказом на этот лад, но как бы заступает место "необходимости"».
Основываясь на таких формах повествования, восходящих к Гомеру, классическая эстетика XIX в. утверждала, что эпический род литературы - это художественное воплощение особого, «эпического» миросозерцания, которое отмечено максимальной широтой взгляда на жизнь и ее спокойным, радостным приятием.
Сходные мысли о природе повествования высказал Т. Манн в статье «Искусство романа»: «Быть может, стихия повествования, это вечно-гомеровское начало, этот вещий дух минувшего, который бесконечен, как мир, и которому ведом весь мир, наиболее полно и достойно воплощает стихию поэзии». Писатель усматривает в повествовательной форме воплощение духа иронии, которая является не холодно-равнодушной издевкой, но исполнена сердечности и любви: «…это величие, питающее нежность к малому», «взгляд с высоты свободы, покоя и объективности, не омраченный никаким морализаторством».
Подобные представления о содержательных основах эпической формы (при всем том, что они опираются на многовековой художественный опыт) неполны и в значительной мере односторонни. Дистанция между повествователем и действующими лицами актуализируется не всегда. Об этом свидетельствует уже античная проза: в романах «Метаморфозы» («Золотой осел») Апулея и «Сатирикон» Петрония персонажи сами рассказывают о виденном и испытанном. В таких произведениях выражается взгляд на мир, не имеющий ничего общего с так называемым «эпическим миросозерцанием».
В литературе последних двух-трех столетий едва ли не возобладало субъективное повествование. Повествователь стал смотреть на мир глазами одного из персонажей, проникаясь его мыслями и впечатлениями. Яркий пример тому - подробная картина сражения при Ватерлоо в «Пармской обители» Стендаля. Эта битва воспроизведена отнюдь не по-гомеровски: повествователь как бы перевоплощается в героя, юного Фабрицио, и смотрит на происходящее его глазами. Дистанция между ним и персонажем практически исчезает, точки зрения обоих совмещаются. Такому способу изображения порой отдавал дань Толстой. Бородинская битва в одной из глав «Войны и мира» показана в восприятии не искушенного в военном деле Пьера Безухова; военный совет в Филях подан в виде впечатлений девочки Малаши. В «Анне Карениной» скачки, в которых участвует Вронский, воспроизведены дважды: один раз пережитые им самим, другой - увиденные глазами Анны. Нечто подобное свойственно произведениям Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова, Г. Флобера и Т. Манна. Герой, к которому приблизился повествователь, изображается как бы изнутри. «Нужно перенестись в действующее лицо», - замечал Флобер. При сближении повествователя с кем-либо из героев широко используется несобственно-прямая речь, так что голоса повествующего и действующего лица сливаются воедино. Совмещение точек зрения повествователя и персонажей в литературе XIX–XX вв. вызвано возросшим художественным интересом к своеобразию внутреннего мира людей, а главное - пониманием жизни как совокупности непохожих одно на другое отношений к реальности, качественно различных кругозоров и ценностных ориентаций.
Наиболее распространенная форма эпического повествования - это рассказ от третьего лица. Но повествующий вполне может выступить в произведении как некое «я». Таких персонифицированных повествователей, высказывающихся от собственного, «первого» лица, естественно называть рассказчиками. Рассказчик нередко является одновременно и персонажем произведения (Максим Максимыч в повести «Бэла» из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова, Гринев в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина, Иван Васильевич в рассказе Л.Н. Толстого «После бала», Аркадий Долгорукий в «Подростке» Ф. М. Достоевского).
Фактами своей жизни и умонастроениями многие из рассказчиков-персонажей близки (хотя и не тождественны) писателям. Это имеет место в автобиографических произведениях (ранняя трилогия Л.Н. Толстого, «Лето Господне» и «Богомолье» И.С. Шмелева). Но чаще судьба, жизненные позиции, переживания героя, ставшего рассказчиком, заметно отличаются от того, что присуще автору («Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Моя жизнь» А.П. Чехова). При этом в ряде произведений (эпистолярная, мемуарная, сказовая формы) повествующие высказываются в манере, которая не тождественна авторской и порой с ней расходится весьма резко (о чужом слове см. с. 248–249). Способы повествования, используемые в эпических произведениях, как видно, весьма разнообразны.
§ 4. Драма
Драматические произведения (др. - гр. drama - действие), как и эпические, воссоздают событийные ряды, поступки людей и их взаимоотношения. Подобно автору эпического произведения, драматург подчинен «закону развивающегося действия». Но развернутое повествовательно-описательное изображение в драме отсутствует. Собственно авторская речь здесь вспомогательна и эпизодична. Таковы списки действующих лиц, иногда сопровождаемые краткими характеристиками, обозначение времени и места действия; описания сценической обстановки в начале актов и эпизодов, а также комментарии к отдельным репликам героев и указания на их движения, жесты, мимику, интонации (ремарки). Все это составляет побочный текст драматического произведения. Основной же его текст - это цепь высказываний персонажей, их реплик и монологов.
Отсюда некоторая ограниченность художественных возможностей драмы. Писатель-драматург пользуется лишь частью предметно-изобразительных средств, которые доступны создателю романа или эпопеи, новеллы или повести. И характеры действующих лиц раскрываются в драме с меньшей свободой и полнотой, чем в эпосе. «Драму я воспринимаю, - замечал Т. Манн, - как искусство силуэта и ощущаю только рассказанного человека как объемный, цельный, реальный и пластический образ». При этом драматурги, в отличие от авторов эпических произведений, вынуждены ограничиваться тем объемом словесного текста, который отвечает запросам театрального искусства. Время изображаемого в драме действия должно уместиться в строгие рамки времени сценического. А спектакль в привычных для новоевропейского театра формах продолжается, как известно, не более трех-четырех часов. И это требует соответствующего размера драматургического текста.
Вместе с тем у автора пьесы есть существенные преимущества перед создателями повестей и романов. Один изображаемый в драме момент плотно примыкает к другому, соседнему. Время воспроизводимых драматургом событий на протяжении "сценического эпизода не сжимается и не растягивается; персонажи драмы обмениваются репликами без сколько-нибудь заметных временных интервалов, и их высказывания, как отмечал К.С. Станиславский, составляют сплошную, непрерывную линию. Если с помощью повествования действие запечатлевается как нечто прошедшее, то цепь диалогов и монологов в драме создает иллюзию настоящего времени. Жизнь здесь говорит как бы от своего собственного лица: между тем, что изображается, и читателем нет посредника-повествователя. Действие воссоздается в драме с максимальной непосредственностью. Оно протекает будто перед глазами читателя. «Все повествовательные формы, - писал Ф. Шиллер, - переносят настоящее в прошедшее; все драматические делают прошедшее настоящим».
Драма ориентирована на требования сцены. А театр - это искусство публичное, массовое. Спектакль впрямую воздействует на многих людей, как бы сливающихся воедино в откликах на совершающееся перед ними. Назначение драмы, по словам Пушкина, - действовать на множество, занимать его любопытство» и ради этого запечатлевать «истину страстей»: «Драма родилась на площади и составляла увеселение народное. Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенные, странные происшествия. Народ требует сильных ощущений <..> Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим искусством». Особенно тесными узами связан драматический род литературы со смеховой сферой, ибо театр упрочивался и развивался в неразрывной связи с массовыми празднествами, в атмосфере игры и веселья. «Комический жанр является для античности универсальным», - заметила О. М. Фрейденберг. То же самое правомерно сказать о театре и драме иных стран и эпох. Прав был Т. Манн, назвав «комедиантский инстинкт» «первоосновой всякого драматического мастерства».
Неудивительно, что драма тяготеет к внешне эффектной подаче изображаемого. Ее образность оказывается гиперболической, броской, театрально-яркой. «Театр требует преувеличенных широких линий как в голосе, декламации, так и в жестах», - писал Н. Буало. И это свойство сценического искусства неизменно накладывает свою печать на поведение героев драматических произведений. «Как в театре разыграл», - комментирует Бубнов («На дне» Горького) исступленную тираду отчаявшегося Клеща, который неожиданным вторжением в общий разговор придал ему театральную эффектность. Знаменательны (в качестве характеристики драматического рода литературы) упреки Толстого в адрес У. Шекспира за обилие гипербол, из-за чего будто бы «нарушается возможность художественного впечатления». «С первых же слов, - писал он о трагедии «Король Лир», - видно преувеличение: преувеличение событий, преувеличение чувств и преувеличение выражений». В оценке творчества Шекспира Л. Толстой был неправ, но мысль о приверженности великого английского драматурга к театрализующим гиперболам совершенно справедлива. Сказанное о «Короле Лире» с не меньшим основанием можно отнести к античным комедиям и трагедиям, драматическим произведениям классицизма, к пьесам Ф. Шиллера и В. Гюго и т. п.
В XIX–XX вв., когда в литературе возобладало стремление к житейской достоверности, присущие драме условности стали менее явными, нередко они сводились к минимуму. У истоков этого явления так называемая «мещанская драма» XVIII в., создателями и теоретиками которой были Д. Дидро и Г.Э. Лессинг. Произведения крупнейших русских драматургов XIX в. и начала XX столетия - А.Н. Островского, А.П. Чехова и М. Горького - отличаются достоверностью воссоздаваемых жизненных форм. Но и при установке Драматургов на правдоподобие сюжетные, психологические и собственно речевые гиперболы сохранялись. Театрализующие условности дали о себе знать даже в драматургии Чехова, явившей собой максимальный предел «жизнеподобия». Всмотримся в заключительную сцену «Трех сестер». Одна молодая женщина десять-пятнадцать минут назад рассталась с любимым человеком, вероятно, навсегда. Другая пять минут назад узнала о смерти своего жениха. И вот они, вместе со старшей, третьей сестрой подводят нравственно-философские итоги прошедшему, размышляя под звуки военного марша об участи своего поколения, о будущем человечества. Вряд ли можно представить себе это происшедшим в реальности. Но неправдоподобия финала «Трех сестер» мы не замечаем, так как привыкли, что драма ощутимо видоизменяет формы жизнедеятельности людей.
Сказанное убеждает в справедливости суждения А. С. Пушкина (из его уже цитированной статьи) о том, что «самая сущность драматического искусства исключает правдоподобие»; «Читая поэму, роман, мы часто можем забыться и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, но истина. В оде, в элегии можем думать, что поэт изображал свои настоящие чувствования, в настоящих обстоятельствах. Но где правдоподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена зрителями, которые условились etc».
Наиболее ответственная роль в драматических произведениях принадлежит условности речевого самораскрытия героев, диалоги и монологи которых, нередко насыщенные афоризмами и сентенциями, оказываются куда более пространными и эффектными, нежели те реплики, которые могли бы быть произнесены в аналогичном жизненном положении. Условны реплики «в сторону», которые как бы не существуют для других находящихся на сцене персонажей, но хорошо слышны зрителям, а также монологи, произносимые героями в одиночестве, наедине с собой, являющиеся чисто сценическим приемом вынесения наружу речи внутренней (таких монологов немало как в античных трагедиях, так и в драматургии Нового времени). Драматург, ставя своего рода эксперимент, показывает, как высказался бы человек, если бы в произносимых словах он выражал свои умонастроения с максимальной полнотой и яркостью. И речь в драматическом произведении нередко обретает сходство с речью художественно-лирической либо ораторской: герои здесь склонны изъясняться как импровизаторы-поэты или мастера публичных выступлений. Поэтому отчасти прав был Гегель, рассматривая драму как синтез эпического начала (событийность) и лирического (речевая экспрессия).
Драма имеет в искусстве как бы две жизни: театральную и собственно литературную. Составляя драматургическую основу спектаклей, бытуя в их составе, драматическое произведение воспринимается также публикой читающей.
Но так обстояло дело далеко не всегда. Эмансипация драмы от сцены осуществлялась постепенно - на протяжении ряда столетий и завершилась сравнительно недавно: в XVIII–XIX вв. Всемирно-значимые образцы драматургии (от античности и до XVII в.) в пору их создания практически не осознавались как литературные произведения: они бытовали только в составе сценического искусства. Ни У. Шекспир, ни Ж. Б. Мольер не воспринимались их современниками в качестве писателей. Решающую роль в упрочении представления о драме как произведении, предназначенном не только для сценической постановки, но и для чтения, сыграло «открытие» во второй половине XVIII столетия Шекспира как великого драматического поэта. Отныне драмы стали интенсивно читаться. Благодаря многочисленным печатным изданиям в XIX–XX вв. драматические произведения оказались важной разновидностью художественной литературы.
В XIX в. (особенно в первой его половине) литературные достоинства драмы нередко ставились выше сценических. Так, Гете полагал, будто «произведения Шекспира не для телесных очей», а Грибоедов называл «ребяческим» свое желание услышать стихи «Горя от ума» со сцены. Получила распространение так называемая Lesedrama (драма для чтения), создаваемая с установкой прежде всего на восприятие в чтении. Таковы «Фауст» Гете, драматические произведения Байрона, маленькие трагедии Пушкина, тургеневские драмы, по поводу которых автор замечал: «Пьесы мои, неудовлетворительные на сцене, могут представить некоторый интерес в чтении».
Принципиальных различий между Lesedrama и пьесой, которая ориентирована автором на сценическую постановку, не существует. Драмы, создаваемые для чтения, часто являются потенциально сценическими. И театр (в том числе современный) упорно ищет и порой находит к ним ключи, свидетельства чему - успешные постановки тургеневского «Месяца в деревне» (прежде всего это знаменитый дореволюционный спектакль Художественного театра) и многочисленные (хотя далеко и не всегда удачные) сценические прочтения пушкинских маленьких трагедий в XX в.
Давняя истина остается в силе: важнейшее, главное предназначение драмы - это сцена. «Только при сценическом исполнении, - отметил А. Н. Островский, - драматургический вымысел автора получает вполне законченную форму и производит именно то моральное действие, достижение которого автор поставил себе целью».
Создание спектакля на основе драматического произведения сопряжено с его творческим достраиванием: актеры создают интонационно-пластические рисунки исполняемых ролей, художник оформляет сценическое пространство, режиссер разрабатывает мизансцены. В связи с этим концепция пьесы несколько меняется (одним ее сторонам уделяется большее, другим - меньшее внимание), нередко конкретизируется и обогащается: сценическая постановка вносит в драму новые смысловые оттенки. При этом для театра первостепенно значим принцип верности прочтения литературы. Режиссер и актеры призваны донести поставленное произведение до зрителей с максимально возможной полнотой. Верность сценического прочтения имеет место там, где режиссер и актеры глубоко постигают драматическое произведение в его основных содержательных, жанровых, стилевых особенностях. Сценические постановки (как и экранизации) правомерны лишь в тех случаях, когда имеется согласие (пусть относительное) режиссера и актеров с кругом идей писателя-драматурга, когда деятели сцены бережно внимательны к смыслу поставленного произведения, к особенностям его жанра, чертам его стиля и к самому тексту.
В классической эстетике XVIII–XIX вв., в частности у Гегеля и Белинского, драма (прежде всего жанр трагедии) рассматривалась в качестве высшей формы литературного творчества: как «венец поэзии». Целый ряд художественных эпох и в самом деле проявил себя по преимуществу в драматическом искусстве. Эсхил и Софокл в период расцвета античной культуры, Мольер, Расин и Корнель в пору классицизма не имели себе равных среди авторов эпических произведений. Знаменательно в этом отношении творчество Гете. Для великого немецкого писателя были доступны все литературные роды, увенчал же он свою жизнь в искусстве созданием драматического произведения - бессмертного «Фауста».
В прошлые века (вплоть до XVIII столетия) драма не только успешно соперничала с эпосом, но и нередко становилась ведущей формой художественного воспроизведения жизни в пространстве и времени. Это объясняется рядом причин. Во-первых, огромную роль играло театральное искусство, доступное (в отличие от рукописной и печатной книги) самым широким слоям общества. Во-вторых, свойства драматических произведений (изображение персонажей с резко выраженными чертами, воспроизведение человеческих страстей, тяготение к патетике и гротеску) в «дореалистические» эпохи вполне отвечали тенденциям общелитературным и общехудожественным.
И хотя в XIX–XX вв. на авансцену литературы выдвинулся социально-психологический роман - жанр эпического рода литературы, драматическим произведениям по-прежнему принадлежит почетное место.
§ 5. Лирика
В лирике (др. - гр. lyra - музыкальный инструмент, под звуки которого исполнялись стихи) на первом плане единичные состояния человеческого сознания: эмоционально окрашенные размышления, волевые импульсы, впечатления, внерациональные ощущения и устремления. Если в лирическом произведении и обозначается какой-либо событийный ряд (что бывает далеко не всегда), то весьма скупо, без сколько-нибудь тщательной детализации (вспомним пушкинское «Я помню чудное мгновенье…»). «Лирика, - писал Ф. Шлегель, - всегда изображает лишь само по себе определенное состояние, например, порыв удивления, вспышку гнева, боли, радости и т. д., - некое целое, собственно не являющееся целым. Здесь необходимо единство чувства». Этот взгляд на предмет лирической поэзии унаследован современной наукой.
Лирическое переживание предстает как принадлежащее говорящему (носителю речи). Оно не столько обозначается словами (это случай частный), сколько с максимальной энергией выражается. В лирике (и только в ней) система художественных средств всецело подчиняется раскрытию цельного движения человеческой души.
Лирически запечатленное переживание ощутимо отличается от непосредственно жизненных эмоций, где имеют место, а нередко и преобладают аморфность, невнятность, хаотичность. Лирическая эмоция - это своего рода сгусток, квинтэссенция душевного опыта человека. «Самый субъективный род литературы, - писала о лирике Л. Я. Гинзбург, - она, как никакой другой, устремлена к общему, к изображению душевной жизни как всеобщей». Лежащее в основе лирического произведения переживание - это своего рода душевное озарение. Оно являет собой результат творческого достраивания и художественного преобразования того, что испытано (или может быть испытано) человеком в реальной жизни. «Даже в те поры, - писал о Пушкине Н. В. Гоголь, - когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня, - точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность Читатель услышал одно только благоухание, но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать».
Лирика отнюдь не замыкается в сфере внутренней жизни людей, их психологии как таковой. Ее неизменно привлекают душевные состояния, знаменующие сосредоточенность человека на внешней реальности. Поэтому лирическая поэзия оказывается художественным освоением состояний не только сознания (что, как настойчиво говорит Г. Н. Поспелов, является в ней первичным, главным, доминирующим), но и бытия. Таковы философские, пейзажные и гражданские стихотворения. Лирическая поэзия способна непринужденно и широко запечатлевать пространственно-временные представления, связывать выражаемые чувства с фактами быта и природы, истории и современности, с планетарной жизнью, вселенной, мирозданием. При этом лирическое творчество, одним из предварений которого в европейской литературе являются библейские «Псалмы», может обретать в своих наиболее ярких образцах религиозный характер. Оно оказывается (вспомним стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва») «соприродным молитве» запечатлевает раздумья поэтов о высшей силе бытия (ода Г.Р. Державина «Бог») и его общение с Богом («Пророк» А.С. Пушкина). Религиозные мотивы весьма настойчивы и в лирике нашего века: у В.Ф. Ходасевича, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, из числа современных поэтов - у О.А Седаковой.
Диапазон лирически воплощаемых концепций, идей, эмоций необычайно широк. Вместе с тем лирика в большей мере, чем другие роды литературы, тяготеет к запечатлению всего позитивно значимого и обладающего ценностью. Она не способна плодоносить, замкнувшись в области тотального скептицизма и мироотвержения. Обратимся еще раз к книге Л.Я. Гинзбург: «По самой своей сути лирика - разговор о значительном, высоком, прекрасном (иногда в противоречивом, ироническом преломлении); своего рода экспозиция идеалов и жизненных ценностей человека. Но также и антиценностей - в гротеске, в обличении и сатире; но не здесь все же проходит большая дорога лирической поэзии».
Лирика обретает себя главным образом в малой форме. Хотя и существует жанр лирической поэмы, воссоздающей переживания в их симфонической многоплановости («Про это» В.В. Маяковского, «Поэма горы» и «Поэма конца» М.И. Цветаевой, «Поэма без героя» А.А Ахматовой), в лирике безусловно преобладают небольшие по объему стихотворения. Принцип лирического рода литературы - «как мотано короче и как можно полнее». Устремленные к предельной компактности, максимально «сжатые» лирические тексты порой подобны пословичным формулам, афоризмам, сентенциям, с которыми нередко соприкасаются и соперничают.
Состояния человеческого сознания воплощаются в лирике по-разному: либо прямо и открыто, в задушевных признаниях, исповедальных монологах, исполненных рефлексии (вспомним шедевр С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…»), либо по преимуществу косвенно, опосредованно) в форме изображения внешней реальности (описательная лирика, прежде всего пейзажная) или компактного рассказа о каком-то событии (повествовательная лирика). Но едва ли не в любом лирическом произведении присутствует медитативное начало. Медитацией (лат. meditatio - обдумывание, размышление) называют взволнованное и психологически напряженное раздумье о чем-либо: «Даже тогда, когда лирические произведения как будто бы лишены медитативности и внешне в основном описательны, они только при том условии оказываются полноценно художественными, если их описательность обладает медитативным «подтекстом». Лирика, говоря иначе, несовместима с нейтральностью и беспристрастностью тона, широко бытующего в эпических повествованиях. Речь лирического произведения исполнена экспрессии, которая здесь становится организующим и доминирующим началом. Лирическая экспрессия дает о себе знать и в подборе слов, и в синтаксических конструкциях, и в иносказаниях, и, главное, в фонетико-ритмическом построении текста. На первый план в лирике выдвигаются «семантико-фонетические эффекты» в их неразрывной связи с ритмикой, как правило, напряженно-динамичной. При этом лирическое произведение в подавляющем большинстве случаев имеет стихотворную форму, тогда как эпос и драма (особенно в близкие нам эпохи) обращаются преимущественно к прозе.
Речевая экспрессия в лирическом роде поэзии нередко доводится как бы до максимального предела. Такого количества смелых и неожиданных иносказаний, такого гибкого и насыщенного соединения интонаций и ритмов, таких проникновенных и впечатляющих звуковых повторов и подобий, к которым охотно прибегают (особенно в нашем столетии) поэты-лирики, не знают ни «обычная» речь, ни высказывания героев в эпосе и драме, ни повествовательная проза, ни даже стихотворный эпос.
В исполненной экспрессии лирической речи привычная логическая упорядоченность высказываний нередко оттесняется на периферию, а то и устраняется вовсе, что особенно характерно для поэзии XX в., во многом предваренной творчеством французских символистов второй половины XIX столетия (П. Верлен, Ст. Малларме). Вот строки Л.Н. Мартынова, посвященные искусству подобного рода:
И своевольничает речь, Ломается порядок в гамме, И ходят ноты вверх ногами, Чтоб голос яви подстеречь.
«Лирический беспорядок», знакомый словесному искусству и ранее, но возобладавший только в поэзии нашего столетия, - это выражение художественного интереса к потаенным глубинам человеческого сознания, к истокам переживаний, к сложным, логически неопределимым движениям души. Обратившись к речи, которая позволяет себе «своевольничать», поэты получают возможность говорить обо всем одновременно, стремительно, сразу, «взахлеб»: «Мир здесь предстает как бы захваченным врасплох внезапно возникшим чувством». Вспомним начало пространного стихотворения Б.Л. Пастернака «Волны», открывающего книгу «Второе рождение»:
Экспрессивность речи роднит лирическое творчество с музыкой. Об этом - стихотворение П. Верлена «Искусство поэзии», содержащее обращенный к поэту призыв проникнуться духом музыки:
За музыкою только дело. Итак, не размеряй пути. Почти бесплотность предпочти Всему, что слишком плоть и тело <…> Так музыки же вновь и вновь! Пускай в твоем стихе с разгону Блеснут вдали преображенной Другое небо и любовь.
На ранних этапах развития искусства лирические произведения пелись, словесный текст сопровождался мелодией, ею обогащался и с ней взаимодействовал. Многочисленные песни и романсы поныне свидетельствуют, что лирика близка музыке своей сутью. По словам М.С. Кагана, лирика является «музыкой в литературе», «литературой, принявшей на себя законы музыки».
Существует, однако, и принципиальное различие между лирикой и музыкой. Последняя (как и танец), постигая сферы человеческого сознания, недоступные другим видам искусства, вместе с тем ограничивается тем, что передает общий характер переживания. Сознание человека раскрывается здесь вне его прямой связи с какими-то конкретными явлениями бытия. Слушая, например, знаменитый этюд Шопена до минор (ор. 10 № 12), мы воспринимаем всю стремительную активность и возвышенность чувства, достигающего напряжения страсти, но не связываем это же с какой-то конкретной жизненной ситуацией или какой-то определенной картиной. Слушатель волен представить морской шторм, или революцию, или мятежность любовного чувства, или просто отдаться стихии звуков и воспринять воплощенные в них эмоции без всяких предметных ассоциаций. Музыка способна погрузить нас в такие глубины духа, которые уже не связаны с представлением о каких-то единичных явлениях.
Не то в лирической поэзии. Чувства и волевые импульсы даются здесь в их обусловленности чем-то и в прямой направленности на конкретные явления. Вспомним, например, стихотворение Пушкина «Погасло дневное светило…». Мятежное, романтическое и вместе с тем горестное чувство поэта раскрывается через его впечатление от окружающего (волнующийся под ним «угрюмый океан», «берег отдаленный, земли полуденной волшебные края») и через воспоминания о происшедшем (о глубоких ранах любви и отцветшей в бурях младости). Поэтом передаются связи сознания с бытием, иначе в словесном искусстве быть не может. То или иное чувство всегда предстает как реакция сознания на какие-то явления реальности. Как бы смутны и неуловимы ни были запечатлеваемые художественным словом душевные движения (вспомним стихи В.А. Жуковского, А.А. Фета или раннего А.А. Блока), читатель узнает, чем они вызваны, или, по крайней мере, с какими впечатлениями сопряжены.
Носителя переживания, выраженного в лирике, принято называть лирическим героем. Этот термин, введенный Ю.Н. Тыняновым в статье 1921 года «Блок», укоренен в литературоведении и критике (наряду с синонимичными ему словосочетаниями «лирическое я», «лирический субъект»). О лирическом герое как «я-сотворенном» (М.М. Пришвин) говорят, имея в виду не только отдельные стихотворения, но и их циклы, а также творчество поэта в целом. Это - весьма специфичный образ человека, принципиально отличный от образов повествователей-рассказчиков, о внутреннем мире которых мы, как правило, ничего не знаем, и персонажей эпических и драматических произведений, которые неизменно дистанцированы от писателя.
Лирический герой не просто связан тесными узами с автором, с его мироотношением, духовно-биографическим опытом, душевным настроем, манерой речевого поведения, но оказывается (едва ли не в большинстве случаев) от него неотличимым. Лирика в основном ее «массиве» автопсихологична.
Вместе с тем лирическое переживание не тождественно тому, что было испытано поэтом как биографической личностью. Лирика не просто воспроизводит чувства автора, она их трансформирует, обогащает, создает заново, возвышает и облагораживает. Именно об этом - стихотворение А. С. Пушкина «Поэт» («.. лишь божественный глагол /До слуха чуткого коснется, /Душа поэта встрепенется, / Как пробудившийся орел»).
При этом автор в процессе творчества нередко создает силой воображения те психологические ситуации, которых в реальной действительности не было вовсе. Литературоведы неоднократно убеждались, что мотивы и темы лирических стихотворений А. С. Пушкина не всегда согласуются с фактами его личной судьбы. Знаменательна и надпись, которую сделал А.А. Блок на полях рукописи одного своего стихотворения: «Ничего такого не было». В своих стихах поэт запечатлевал свою личность то в образе юноши-монаха, поклонника мистически таинственной Прекрасной Дамы, то в «маске» шекспировского Гамлета, то в роли завсегдатая петербургских ресторанов.
Лирически выражаемые переживания могут принадлежать как самому поэту, так и иным, не похожим на него лицам. Умение «чужое вмиг почувствовать своим» - такова, по словам А.А. Фета, одна из граней поэтического дарования. Лирику, в которой выражаются переживания лица, заметно отличающегося от автора, называют ролевой (в отличие от автопсихологической). Таковы стихотворения «Нет имени тебе, мой дальний…» А.А. Блока - душевное излияние девушки, живущей смутным ожиданием любви, или «Я убит подо Ржевом» А.Т. Твардовского, или «Одиссей Телемаку» И.А. Бродского. Бывает даже (правда, это случается редко), что субъект лирического высказывания разоблачается автором. Таков «нравственный человек» в стихотворении Н.А. Некрасова того же названия, причинивший окружающим множество горестей и бед, но упорно повторявший фразу: «Живя согласно с строгою моралью, я никому не сделал в жизни зла». Приведенное ранее определение лирики Аристотелем (поэт «остается самим собою, не изменяя своего лица»), таким образом, неточно: лирический поэт вполне может изменить свое лицо и воспроизвести переживание, принадлежащее кому-то другому.
Но магистралью лирического творчества является поэзия не ролевая, а автопсихологическая: стихотворения, являющие собой акт прямого самовыражения поэта. Читателям дороги человеческая подлинность лирического переживания, прямое присутствие в стихотворении, по словам В.Ф. Ходасевича, «живой души поэта»: «Личность автора, не скрытая стилизацией, становится нам более близкой»; достоинство поэта состоит «в том, что он пишет, повинуясь действительной потребности выразить свои переживания».
Лирике в ее доминирующей ветви присуща чарующая непосредственность самораскрытия автора, «распахнутость» его внутреннего мира. Так, вникая в стихотворения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина и Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой, мы получаем весьма яркое и многоплановое представление об их духовно-биографическом опыте, круге умонастроений, личной судьбе.
Соотношение между лирическим героем и автором (поэтом) осознается литературоведами по-разному. От традиционного представления о слитности, нерасторжимости, тождественности носителя лирической речи и автора, восходящего к Аристотелю и, на наш взгляд, имеющего серьезные резоны, заметно отличаются суждения ряда ученых XX в., в частности М.М. Бахтина, который усматривал в лирике сложную систему отношений между автором и героем, «я» и «другим», а также говорил о неизменном присутствии в ней хорового начала. Эту мысль развернул С.Н. Бройтман. Он утверждает, что для лирической поэзии (в особенности близких нам эпох) характерна не «моносубъектность», а «интерсубъектность», т. е. запечатление взаимодействующих сознаний.
Эти научные новации, однако, не колеблют привычного представления об открытости авторского присутствия в лирическом произведении как его важнейшем свойстве, которое традиционно обозначается термином «субъективность». «Он (лирический поэт. - В.Х.), - писал Гегель, - может внутри себя самого искать побуждения к творчеству и содержания, останавливаясь на внутренних ситуациях, состояниях, переживаниях и страстях своего сердца и духа. Здесь сам человек в его субъективной внутренней жизни становится художественным произведением, тогда как эпическому поэту служат содержанием отличный от него самого герой, его подвиги и случающиеся с ним происшествия».
Именно полнотой выражения авторской субъективности определяется своеобразие восприятия лирики читателем, который оказывается активно вовлеченным в эмоциональную атмосферу произведения. Лирическое творчество (и это опять-таки роднит его с музыкой, а также с хореографией) обладает максимальной внушающей, заражающей силой (суггестивностью). Знакомясь с новеллой, романом или драмой, мы воспринимаем изображенное с определенной психологической дистанции, в известной мере отстраненно. По воле авторов (а иногда и по своей собственной) мы принимаем либо, напротив, не разделяем их умонастроений, одобряем или не одобряем их поступки, иронизируем над ними или же им сочувствуем. Другое дело лирика. Полно воспринять лирическое произведение - это значит проникнуться умонастроениями поэта, ощутить и еще раз пережить их как нечто свое собственное, личное, задушевное. С помощью сгущенных поэтических формул лирического произведения между автором и читателем, по точным словам Л.Я. Гинзбург, «устанавливается молниеносный и безошибочный контакт». Чувства поэта становятся одновременно и нашими чувствами. Автор и его читатель образуют некое единое, нераздельное «мы». И в этом состоит особое обаяние лирики.
§ 6. Межродовые и внеродовые формы
Роды литературы не отделены друг от друга непроходимой стеной. Наряду с произведениями, безусловно и полностью принадлежащими к одному из литературных родов, существуют и те, что соединяют в себе свойства каких-либо двух родовых форм - «двухродовые образования» (выражение Б.О. Кормана). О произведениях и их группах, принадлежащих двум родам литературы, на протяжении XIX–XX вв. говорилось неоднократно. Так, Шеллинг характеризовал роман как «соединение эпоса с драмой». Отмечалось присутствие эпического начала в драматургии А. Н. Островского. Как эпические характеризовал свои пьесы Б. Брехт. За произведениями М. Метерлинка и А. Блока закрепился термин «лирические драмы». Глубоко укоренена в словесном искусстве лиро-эпика, включающая в себя лиро-эпические поэмы (упрочившиеся в литературе, начиная с эпохи романтизма), баллады (имеющие фольклорные корни), так называемую лирическую прозу (как правило, автобиографическую), произведения, где к повествованию о событиях «подключены» лирические отступления, как, например, в «Дон Жуане» Байрона и «Евгении Онегине» Пушкина.
В литературоведении XX в. неоднократно делались попытки дополнить традиционную «триаду» (эпос, лирика, драма) и обосновать понятие четвертого (а то и пятого и т. д.) рода литературы. Рядом с тремя «прежними» ставились и роман (В.Д. Днепров), и сатира (Я.Е. Эльсберг, Ю.Б. Борев), и сценарий (ряд теоретиков кино). В подобного рода суждениях немало спорного, но литература действительно знает группы произведений, которые не в полной мере обладают свойствами эпоса, лирики или драмы, а то и лишены их вовсе. Их правомерно назвать внеродовыми формами.
Во-первых, это очерки. Здесь внимание авторов сосредоточено на внешней реальности, что дает литературоведам некоторое основание ставить их в ряд эпических жанров. Однако в очерках событийные ряды и собственно повествование организующей роли не играют: доминируют описания, нередко сопровождающиеся рассуждениями. Таковы «Хорь и Калиныч» из тургеневских «Записок охотника», некоторые произведения Г.И. Успенского и М.М. Пришвина.
Во-вторых, это так называемая литература «потока сознания», где преобладают не повествовательная подача событий, а нескончаемые цепи впечатлений, воспоминаний, душевных движений носителя речи. Здесь сознание, чаще всего предстающее неупорядоченным, хаотичным, как бы присваивает и поглощает мир: действительность оказывается «застланной» хаосом ее созерцаний, мир - помещенным в сознание. Подобными свойствами обладают произведения М. Пруста, Дж. Джойса, Андрея Белого. Позже к этой форме обратились представители «нового романа» во Франции (М. Бютор, Н. Саррот).
И наконец, в традиционную триаду решительно не вписывается эссеистика, ставшая ныне весьма влиятельной областью литературного творчества. У истоков эссеистики - всемирно известные «Опыты» («Essays») М. Монтеня. Эссеистская форма - это непринужденно-свободное соединение суммирующих сообщений о единичных фактах, описаний реальности и (что особенно важно) размышлений о ней. Мысли, высказываемые в эссеистской форме, как правило, не претендуют на исчерпывающую трактовку предмета, они допускают возможность совсем иных суждений. Эссеистика тяготеет к синкретизму: начала собственно художественные здесь легко соединяются с публицистическими и философскими.
Эссеистика едва ли не доминирует в творчестве В.В. Розанова («Уединенное», «Опавшие листья»). Она дала о себе знать в прозе А.М. Ремизова («Посолонь»), в ряде произведений М.М. Пришвина (вспоминаются прежде всего «Глаза земли»). Эссеистское начало присутствует в прозе Г. Филдинга и Л. Стерна, в байроновских поэмах, в пушкинском «Евгении Онегине» (вольные беседы с читателем, раздумья о светском человеке, о дружбе и родственниках и т. п.), «Невском проспекте» Н.В. Гоголя (начало и финал повести), в прозе Т. Манна, Г. Гессе, Р. Музиля, где повествование обильно сопровождается размышлениями писателей.
По мысли М.Н. Эпштейна, основу эссеистики составляет особая концепция человека - как носителя не знаний, а мнений. Ее призвание - не провозглашать готовые истины, а расщеплять закоснелую, ложную целостность, отстаивать свободную мысль, уходящую от централизации смысла: здесь имеет место «сопребывание личности со становящимся словом». Релятивистски понятой эссеистике автор придает статус весьма высокий: это «внутренний двигатель культуры нового времени», средоточие возможностей «сверххудожественного обобщения». Заметим, однако, что эссеистика отнюдь не устранила традиционные родовые формы и, кроме того, она в состоянии воплощать мироотношение, которое противостоит релятивизму. Яркий пример тому - творчество М.М. Пришвина.
Итак, различимы собственно родовые формы, традиционные и безраздельно господствовавшие в литературном творчестве на протяжении многих веков, и формы «внеродовые», нетрадиционные, укоренившиеся в «послеромантическом» искусстве. Первые со вторыми взаимодействуют весьма активно, друг друга дополняя. Ныне платоновско-аристотелевско-гегелевская триада (эпос, лирика, драма), как видно, в значительной мере поколеблена и нуждается в корректировке. В то же время нет оснований объявлять привычно выделяемые три рода литературы устаревшими, как это порой делается с легкой руки итальянского философа и теоретика искусства Б. Кроче. Из числа русских литературоведов в подобном скептическом духе высказался А. И. Белецкий: «Для античных литератур термины эпос, лирика, драма еще не были абстрактными. Они обозначали особые, внешние способы передачи произведения слушающей аудитории. Перейдя в книгу, поэзия отказалась от этих способов передачи, и постепенно виды (имеются в виду роды литературы. - В.Х.) становились все большей фикцией. Необходимо ли и далее длить научное бытие этих фикций?» Не соглашаясь с этим, заметим: литературные произведения всех эпох (в том числе и современные) имеют определенную родовую специфику (форму эпическую, драматическую, лирическую либо нередкие в XX в. формы очерка, «потока сознания», эссе). Родовая принадлежность (либо, напротив, причастность одной из «внеродовых» форм) во многом определяет организацию произведения, его формальные, структурные особенности. Поэтому понятие «род литературы» в составе теоретической поэтики неотъемлемо и насущно.
§ 1. О понятии «жанр»
Литературные жанры - это группы произведений, выделяемые в рамках родов литературы. Каждый из них обладает определенным комплексом устойчивых свойств. Многие литературные жанры имеют истоки и корни в фольклоре. Вновь возникшие в собственно литературном опыте жанры являют собою плод совокупной деятельности начинателей и продолжателей. Такова, например, сформировавшаяся в эпоху романтизма лиро-эпическая поэма. В ее упрочении сыграли весьма ответственную роль не только Дж. Байрон, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, но также их гораздо менее авторитетные и влиятельные современники. По словам В.М. Жирмунского, исследовавшего этот жанр, от больших поэтов «исходят творческие импульсы», которые позже другими, второстепенными претворяются в литературную традицию: «Индивидуальные признаки великого произведения превращаются в признаки жанровые». Жанры, как видно, надындивидуальны. Их можно назвать индивидуальностями культурно-историческими.
Жанры с трудом поддаются систематизации и классификации (в отличие от родов литературы), упорно сопротивляются им. Прежде всего потому, что их очень много: в каждой художественной культуре жанры специфичны (хокку, танка, газель в литературах стран Востока). К тому же жанры имеют разный исторический объем. Одни бытуют на протяжении всей истории словесного искусства (какова, например, вечно живая от Эзопа до С.В. Михалкова басня); другие же соотнесены с определенными эпохами (такова, к примеру, литургическая драма в составе европейского средневековья). Говоря иначе, жанры являются либо универсальными, либо исторически локальными.
Картина усложняется еще и потому, что одним и тем же словом нередко обозначаются жанровые явления глубоко различные. Так, древними греками элегия мыслилась как произведение, написанное строго определенным стихотворным размером - элегическим дистихом (сочетание гекзаметра с пентаметром) и исполнявшееся речитативом под аккомпанемент флейты. Этой элегии (ее родоначальник - поэт Каллин) VII до н. э.) был присущ весьма широкий круг тем и мотивов (прославление доблестных воинов, философские размышления, любовь, нравоучение). Позже (у римских поэтов Катулла, Проперция, Овидия) элегия стала жанром, сосредоточенным прежде всего на любовной теме. А в Новое время (в основном - вторая половина XVIII - начало XIX в.) элегический жанр благодаря Т. Грею и ВА Жуковскому стал определяться настроением печали и грусти, сожаления и меланхолии. Вместе с тем и в эту пору продолжала жить элегическая традиция, восходящая к античности. Так, в написанных элегическим дистихом «Римских элегиях» И.В. Гете воспеты радости любви, плотские наслаждения, эпикурейская веселость. Та же атмосфера - в элегиях Парни, повлиявших на К.Н. Батюшкова и молодого Пушкина. Слово «элегия», как видно, обозначает несколько жанровых образований. Элегии ранних эпох и культур обладают различными признаками. Что являет собой элегия как таковая и в чем ее надэпохальная уникальность, сказать невозможно в принципе. Единственно корректным является определение элегии «вообще» как «жанра лирической поэзии» (этой мало что говорящей дефиницией не без оснований ограничилась «Краткая литературная энциклопедия»).
Подобный характер имеют и многие иные жанровые обозначения (поэма, роман, сатира и т. п.). Ю.Н. Тынянов справедливо утверждал, что «самые признаки жанра эволюционируют». Он, в частности, отметил: «…то, что называли одою в 20-е годы XIX века или, наконец, Фет, называлось одою не по тем признакам, что во время Ломоносова».
Существующие жанровые обозначения фиксируют различные стороны произведений. Так, слово «трагедия» констатирует причастность данной группы драматических произведений определенному эмоционально-смысловому настрою (пафосу); слово «повесть» говорит о принадлежности произведений эпическому роду литературы и о «среднем» объеме текста (меньшем, чем у романов, и большем, чем у новелл и рассказов); сонет является лирическим жанром, который характеризуется прежде всего строго определенным объемом (14 стихов) и специфической системой рифм; слово «сказка» указывает, во-первых на повествовательность и, во-вторых, на активность вымысла и присутствие фантастики. И так далее. Б.В. Томашевский резонно замечал, что, будучи «многоразличными», жанровые признаки «на дают возможности логической классификации жанров по одному какому-нибудь основанию». К тому же авторы нередко обозначают жанр своих произведений произвольно, вне соответствия привычному словоупотреблению. Так, Н.В. Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой; «Дом у дороги» А.Т. Твардовского имеет Подзаголовок «лирическая хроника», «Василий Теркин»- «книга про бойца».
Ориентироваться в процессах эволюции жанров и нескончаемом «разнобое» жанровых обозначений теоретикам литературы, естественно, непросто. По мысли Ю.В. Стенника, «установление систем жанровых типологий будет всегда сохранять опасность субъективизма и случайности». К. подобным предостережениям нельзя не прислушаться. Однако литературоведение нашего столетия неоднократно намечало, а в какой-то мере и осуществляло разработку понятия «литературный жанр» не только в аспекте конкретном, историко-литературном (исследования отдельных жанровых образований), но и собственно теоретическом. Опыты систематизации жанров в перспективе надэпохальной и всемирной предпринимались как в отечественном, так и в зарубежном литературоведении.
§ 2. Понятие «содержательная форма» в применении к жанрам
Рассмотрение жанров непредставимо без обращения к организации, структуре, форме литературных произведений. Об этом настойчиво говорили теоретики формальной школы. Так, Б.В. Томашевский назвал жанры специфическими «группировками приемов», которые сочетаемы друг с другом, обладают устойчивостью и зависят «от обстановки возникновения, назначения и условий восприятия произведений, от подражания старым произведениям и возникающей отсюда литературной традиции». Признаки жанра ученый характеризует как доминирующие в произведении и определяющие его организацию.
Наследуя традиции формальной школы, а вместе с тем и пересматривая некоторые ее положения, ученые обратили пристальное внимание на смысловую сторону жанров, оперируя терминами «жанровая сущность» и «жанровое содержание». Пальма первенства здесь принадлежит М.М. Бахтину, который говорил, что жанровая форма неразрывными узами связана с тематикой произведений и чертами миросозерцания их авторов: «В жанрах на протяжении веков их жизни накопляются формы видения и осмысления определенных сторон мира». Жанр составляет значимую конструкцию: «Художник слова должен научиться видеть действительность глазами жанра». И еще: «Каждый жанр есть сложная система средств и способов понимающего овладевания» действительностью. Подчеркивая, что жанровые свойства произведений составляют нерасторжимое единство, Бахтин вместе с тем разграничивал формальный (структурный) и собственно содержательный аспекты жанра. Он отмечал, что такие укорененные в античности жанровые наименования, как эпопея, трагедия, идиллия, характеризовавшие структуру произведений, позже, в применении к литературе Нового времени, «употребляются как обозначение жанровой сущности.
О том, что представляет собой жанровая сущность, в работах Бахтина впрямую не говорится, но из общей совокупности его суждений о романе (о них пойдет речь ниже) становится ясным, что имеются в виду художественные принципы освоения человека и его связей с окружающим. Этот глубинный аспект жанров в XIX в. рассматривался Гегелем, который характеризовал эпопею, сатиру и комедию, а также роман, привлекая понятия «субстанциальное» и «субъективное» (индивидуальное, призрачное). Жанры при этом связывались с определенного рода осмыслением «общего состояния мира» и конфликтов («коллизий»). Сходным образом соотнес жанры со стадиями взаимоотношений личности и общества А.Н. Веселовский.
В том же русле (и, на наш взгляд, ближе к Веселовскому, нежели к Гегелю) - концепция литературных жанров Г.Н. Поспелова, который в 1940-е годы предпринял оригинальный опыт систематизации жанровых явлений. Он разграничил жанровые формы «внешние» («замкнутое композиционно-стилистическое целое») и «внутренние» («специфически жанровое содержание» как принцип «образного мышления» и «познавательной трактовки характеров»). Расценив внешние (композиционно-стилистические) жанровые формы как содержательно нейтральные (в этом поспеловская концепция жанров, что неоднократно отмечалось, одностороння и уязвима), ученый сосредоточился на внутренней стороне жанров. Он выделил и охарактеризовал три надэпохальные жанровые группы, положив в основу их разграничения социологический принцип: тип соотношений между художественно постигаемым человеком и обществом, социальной средой в широком смысле. «Если произведения национально-исторического жанрового содержания (имеются в виду эпопеи, былины, оды. - В.Х.), - писал Г.Н. Поспелов, - познают жизнь в аспекте становления национальных обществ, если произведения романические осмысляют становление отдельных характеров в частных отношениях, то произведения «этологического» жанрового содержания раскрывают состояние национального общества или какой-то его части». (Этологические, или нравоописательные, жанры - это произведения типа «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, а также сатиры, идиллии, утопии и антиутопии). Наряду с тремя названными жанровыми группами ученый выделял еще одну: мифологическую, содержащую «народные образно-фантастические объяснения происхождения тех или иных явлений природы и культуры». Эти жанры он относил только к «предыскусству» исторически ранних, «языческих» обществ, полагая, что «мифологическая группа жанров, при переходе народов на более высокие ступени общественной жизни, не получила своего дальнейшего развития».
Характеристика жанровых групп, которая дана Г.Н. Поспеловым, обладает достоинством четкой системности. Вместе с тем она неполна. Ныне, когда с отечественного литературоведения снят запрет на обсуждение религиозно-философской проблематики искусства, к сказанному ученым нетрудно добавить, что существует и является глубоко значимой группа литературно-художественных (а не только архаико-мифологических) жанров, где человек соотносится не столько с жизнью общества, сколько с космическими началами, универсальными законами миропорядка и высшими силами бытия.
Такова притча, которая восходит к эпохам Ветхого и Нового заветов и «с содержательной стороны отличается тяготением к глубинной «премудрости» религиозного или моралистического порядка». Таково житие, ставшее едва ли не ведущим жанром в христианском средневековье; здесь герой приобщен к идеалу праведничества и святости или по крайней мере к нему устремлен. Назовем и мистерию, тоже сформировавшуюся в средние века, а также религиозно-философскую лирику, у истоков которой - библейские «Псалмы». По словам Вяч. Иванова о поэзии Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Вл. С. Соловьева («Римский дневник 1944 года», октябрь), «…их трое, / В земном прозревших неземное / И нам предуказавших путь». Названные жанры, не укладывающиеся в какие-либо социологические построения, правомерно определить как онтологические (воспользовавшись термином философии: онтология - учение о бытии). Данной группе жанров причастны и произведения карнавально-смехового характера, в частности комедии: в них, как показал М.М. Бахтин, герой и окружающая его реальность соотнесены с бытийными универсалиями. У истоков жанров, которые мы назвали онтологическими, - мифологическая архаика, и прежде всего - мифы о сотворении мира, именуемые этиологическими (или космологическими).
Онтологический аспект жанров выдвигается на первый план в ряде зарубежных теорий XX в. Жанры при этом рассматриваются прежде всего как определенным образом описывающие бытие как целое. Говоря словами американского ученого К. Берка, это системы приятия или неприятия мира. В этом ряду теорий наиболее известна концепция Н.Г. Фрая, заявленная в его книге «Анатомия критики» (1957). Жанровая форма, говорится в ней, порождается мифами о временах года и соответствующими им ритуалами: «Весна олицетворяет зарю и рождение, порождая мифы <..-> о пробуждении и воскресении, - излагает И.П. Ильин мысли канадского ученого, - о сотворении света и гибели тьмы, а также архетипы дифирамбической и рапсодической поэзии. Лето символизирует зенит, брак, триумф, порождая мифы об апофеозе, священной свадьбе, посещении рая и архетипы комедии, идиллии, рыцарского романа. Осень как символ захода солнца и смерти порождает мифы увядания жизненной энергии, умирающего бога, насильственной смерти и жертвоприношения и архетипы трагедии и элегии. Зима, олицетворяя мрак и безысходность, порождает миф о победе темных сил и потопе, возвращении хаоса, гибели героя и богов, а также архетипы сатиры».
§ 3. Роман: жанровая сущность
Роман, признанный ведущим жанром литературы последних двух-трех столетий, приковывает к себе пристальное внимание литературоведов и критиков. Становится он также предметом раздумий самих писателей. Вместе с тем этот жанр поныне остается загадкой. Об исторических судьбах романа и его будущем высказываются самые разные, порой противоположные мнения. «Его, - писал Т. Манн в 1936 г., - прозаические качества, сознательность и критицизм, а также богатство его средств, его способность свободно и оперативно распоряжаться показом и исследованием, музыкой и знанием, мифом и наукой, его человеческая широта, его объективность и ирония делают роман тем, чем он является в наше время: монументальным и главенствующим видом художественной литературы». О.Э. Мандельштам, напротив, говорил о закате романа и его исчерпанности (статья «Конец романа», 1922). В психологизации романа и ослаблении в нем внешне-событийного начала (что имело место уже в XIX в.) поэт усмотрел симптом упадка и преддверье гибели жанра, ныне ставшего, по его словам, «старомодным».
В современных концепциях романа так или иначе учитываются высказывания о нем, сделанные в прошлом столетии. Если в эстетике классицизма роман третировался как жанр низкий («Герой, в ком мелко все, лишь для романа годен»; «Несообразности с романом неразлучны»), то в эпоху романтизма он поднимался на щит как воспроизведение «обыденной действительности» и одновременно - «зеркало мира и своего века», плод «вполне зрелого духа»; как «романтическая книга», где в отличие от традиционного эпоса находится место непринужденному выражению настроений автора и героев, и юмору и игровой легкости. «Каждый роман должен приютить в себе дух всеобщего», - писал Жан-Поль. Свои теории романа мыслители рубежа XVIII–XIX вв. обосновывали опытом современных писателей, прежде всего- И.В. Гете как автора книг о Вильгельме Мейстере.
Сопоставление романа с традиционным эпосом, намеченное эстетикой и критикой романтизма, было развернуто Гегелем: «Здесь вновь (как в эпосе. - В.Х.) выступает во всей полноте богатство и многосторонность интересов, состояний, характеров, жизненных условий, широкий фон целостного мира, а также эпическое изображение событий». С другой же стороны, в романе отсутствуют присущее эпосу «изначально поэтическое состояние мира», здесь наличествуют «прозаически упорядоченная действительность» и «конфликт между поэзией сердца и противостоящей ей прозой житейских отношений». Этот конфликт, отмечает Гегель, «разрешается трагически или комически» и часто исчерпывается тем, что герои примиряются с «обычным порядком мира», признав в нем «подлинное и субстанциальное начало». Сходные мысли высказывал В. Г. Белинский, назвавший роман эпосом частной жизни: предмет этого жанра- «судьбы частного человека», обыкновенная, «каждодневная жизнь». Во второй половине 1840-х годов критик утверждал, что роман и родственная ему повесть «стали теперь во главе всех других родов поэзии».
Во многом перекликается с Гегелем и Белинским (в то же время дополняя их), М.М. Бахтин в работах о романе, написанных главным образом в 1930-е годы и дождавшихся публикации в 1970-е. Опираясь на суждения писателей XVIII в. Г. Филдинга и К.М. Виланда, ученый в статье «Эпос и роман (О методологии исследования романа)» (1941) утверждал, что герой романа показывается «не как готовый и неизменный, а как становящийся, изменяющийся, воспитуемый жизнью»; это лицо «не должно быть «героичным» ни в эпическом, ни в трагическом смысле этого слова, романический герой объединяет в себе как положительные, так и отрицательные черты, как низкие, так и высокие, как смешные, так и серьезные». При этом роман запечатлевает «живой контакт» человека «с неготовой, становящейся современностью (незавершенным настоящим)». И он «более глубоко, существенно, чутко и быстро», чем какой-либо иной жанр, «отражает становление самой действительности» (451). Главное же, роман (по Бахтину) способен открывать в человеке не только определившиеся в поведении свойства, но и нереализованные возможности, некий личностный потенциал: «Одной из основных внутренних тем романа является именно тема неадекватности герою его судьбы и его положения», человек здесь может быть «или больше своей судьбы, или меньше своей человечности» (479).
Приведенные суждения Гегеля, Белинского и Бахтина правомерно считать аксиомами теории романа, осваивающего жизнь человека (прежде всего частную, индивидуально-биографическую) в динамике, становлении, эволюции и в ситуациях сложных, как правило, конфликтных отношений героя с окружающим. В романе неизменно присутствует и едва ли не доминирует - в качестве своего рода «сверхтемы» - художественное постижение (воспользуемся известными словами А.С. Пушкина) «самостоянье человека», которое составляет (позволим себе дополнить поэта) и «залог величия его», и источник горестных падений, жизненных тупиков и катастроф. Почва для становления и упрочения романа, говоря иначе, возникает там, где наличествует интерес к человеку, который обладает хотя бы относительной независимостью от установлений социальной среды с ее императивами, обрядами, ритуалами, которому не свойственна «стадная» включенность в социум.
В романах широко запечатлеваются ситуации отчуждения героя от окружающего, акцентируются его неукорененность в реальности, бездомность, житейское странничество и духовное скитальчество. Таковы «Золотой осел» Апулея, рыцарские романы средневековья, «История Жиль Блаза из Сантильяны» А.Р. Лесажа. Вспомним также Жюльена Сореля («Красное и черное» Стендаля), Евгения Онегина («Всему чужой, ничем не связан», - сетует пушкинский герой на свою участь в письме Татьяне), герценовского Бельтова, Раскольникова и Ивана Карамазова у Ф.М. Достоевского. Подобного рода романные герои (а им нет числа) «опираются лишь на себя».
Отчуждение человека от социума и миропорядка было интерпретировано М.М. Бахтиным как необходимо доминирующее в романе. Ученый утверждал, что здесь не только герой, но и сам автор предстают неукорененными в мире, удаленными от начал устойчивости и стабильности, чуждыми преданию. Роман, по его мысли, запечатлевает «распадение эпической (и трагической) целостности человека» и осуществляет «смеховую фамильяризацию мира и человека» (481). «У романа, - писал Бахтин, - новая, специфическая проблемность; для него характерно вечное переосмысление - переоценка» (473). В этом жанре реальность «становится миром, где первого слова (идеального начала) нет, а последнее еще не сказано» (472–473). Тем самым роман рассматривается как выражение миросозерцания скептического и релятивистского, которое мыслится как кризисное и в то же время имеющее перспективу. Роман, утверждает Бахтин, готовит новую, более сложную целостность человека «на более высокой ступени развития» (480).
Много сходного с бахтинской теорией романа в суждениях известного венгерского философа-марксиста и литературоведа Д. Лукача, который назвал этот жанр эпопеей обезбоженного мира, а психологию романного героя - демонической. Предметом романа он считал историю человеческой души, проявляющейся и познающей себя во всяческих приключениях (авантюрах), а преобладающей его тональностью - иронию, которую определял как негативную мистику эпох, порвавших с Богом. Рассматривая роман как зеркало взросления, зрелости общества и антипод эпопеи, запечатлевшей «нормальное детство» человечества, Д. Лукач говорил о воссоздании этим жанром человеческой души, заблудившейся в пустой и мнимой действительности.
Однако роман не погружается всецело в атмосферу демонизма и иронии, распада человеческой цельности, отчужденности людей от мира, но ей и противостоит. Опора героя на самого себя в классической романистике XIX в. (как западноевропейской, так и отечественной) представала чаще всего в освещении двойственном: с одной стороны, как достойное человека «самостоянье», возвышенное, привлекательное, чарующее, с другой - в качестве источника заблуждений и жизненных поражений. «Как я ошибся, как наказан!» - горестно восклицает Онегин, подводя итог своему уединенно свободному пути. Печорин сетует, что не угадал собственного «высокого назначения» и не нашел достойного применения «необъятным силам» своей души. Иван Карамазов в финале романа, мучимый совестью, заболевает белой горячкой. «И да поможет Бог бесприютным скитальцам», - сказано о судьбе Рудина в конце тургеневского романа.
При этом многие романные герои стремятся преодолеть свою уединенность и отчужденность, жаждут, чтобы в их судьбах «с миром утвердилась связь» (А. Блок). Вспомним еще раз восьмую главу «Евгения Онегина», где герой воображает Татьяну сидящей у окна сельского дома; а также тургеневского Лаврецкого, гончаровского Райского, толстовского Андрея Волконского или даже Ивана Карамазова, в лучшие свои минуты устремленного к Алеше. Подобного рода романные ситуации охарактеризовал Г.К. Косиков: «"Сердце" героя и "сердце" мира тянутся друг к другу, и проблема романа заключается в том, что им вовеки не дано соединиться, причем вина героя за это подчас оказывается не меньшей, чем вина мира».
Важно и иное: в романах немалую роль играют герои, самостоянье которых не имеет ничего общего с уединенностью сознания, отчуждением от окружающего, опорой лишь на себя. Среди романных персонажей мы находим тех, кого, воспользовавшись словами М.М. Пришвина о себе, правомерно назвать «деятелями связи и общения». Такова «переполненная жизнью» Наташа Ростова, которая, по выражению С.Г. Бочарова, неизменно «обновляет, освобождает» людей, «определяет их поведение». Эта героиня Л.Н. Толстого наивно и вместе с тем убежденно требует «немедля, сейчас открытых, прямых, человечески простых отношений между людьми». Таковы князь Мышкин и Алеша Карамазов у Достоевского. В ряде романов (особенно настойчиво - в творчестве Ч. Диккенса и русской литературе XIX в.) возвышающе и поэтизирующе подаются душевные контакты человека с близкой ему реальностью и, в частности, семейно-родовые связи («Капитанская дочка» А.С. Пушкина; «Соборяне» и «Захудалый род» Н.С. Лескова; «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева; «Война и мир» и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого). Герои подобных произведений (вспомним Ростовых или Константина Левина) воспринимают и мыслят окружающую реальность не столько чуждой и враждебной себе, сколько дружественной и сродной. Им присуще то, что М.М. Пришвин назвал «родственным вниманием к миру».
Тема Дома (в высоком смысле слова - как неустранимого бытийного начала и непререкаемой ценности) настойчиво (чаще всего в напряженно драматических тонах) звучит и в романистике нашего столетия: у Дж. Голсуорси («Сага о Форсайтах» и последующие произведения), Р. Мартена дю Гара («Семья Тибо»), У. Фолкнера («Шум и ярость»), М.А Булгакова («Белая гвардия»), М.А. Шолохова («Тихий Дон»), Б.Л. Пастернака («Доктор Живаго»), В, Г. Распутина («Живи и помни», «Последний срок»).
Романы близких нам эпох, как видно, в немалой степени ориентированы на идиллические ценности (хотя и не склонны выдвигать на авансцену ситуации гармонии человека и близкой ему реальности). Еще Жан-Поль (имея в виду, вероятно, такие произведения, как «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.Ж. Руссо и «Векфильдский священник» О. Голдсмита) отмечал, что идиллия - это «жанр, родственный роману». А по словам М.М. Бахтина, «значение идиллии для развития романа было огромным».
Роман впитывает в себя опыт не только идиллии, но и ряда других жанров; в этом смысле он подобен губке. Этот жанр способен включить в свою сферу черты эпопеи, запечатлевая не только частную жизнь людей, но и события национально-исторического масштаба («Пармская обитель» Стендаля, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Унесенные ветром» М. Митчелл). Романы в состоянии воплощать смыслы, характерные для притчи. По словам О.А. Седаковой, «в глубине «русского романа» обыкновенно лежит нечто подобное притче».
Несомненна причастность романа и традициям агиографии. Житийное начало весьма ярко выражено в творчестве Достоевского. Лесковских «Соборян» правомерно охарактеризовать как роман-житие. Романы нередко обретают черты сатирического нравоописания, каковы, к примеру, произведения О. де Бальзака, У.М. Теккерея, «Воскресение» Л.Н. Толстого. Как показал М.М. Бахтин, далеко не чужда роману (в особенности авантюрно-плутовскому) и фамильярно-смеховая, карнавальная стихия, первоначально укоренившаяся в комедийно-фарсовых жанрах. Вяч. Иванов не без оснований характеризовал произведения Ф.М. Достоевского как «романы-трагедии». «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова - это своего рода роман-миф, а «Человек без свойств» Р. Музиля - роман-эссе. Свою тетралогию «Иосиф и его братья» Т. Манн в докладе о ней назвал «мифологическим романом», а его первую часть («Былое Иакова») - «фантастическим эссе». Творчество Т. Манна, по словам немецкого ученого, знаменует серьезнейшую трансформацию романа: его погружение в глубины мифологические.
Роман, как видно, обладает двоякой содержательностью: во-первых, специфичной именно для него («самостоянье» и эволюция героя, явленные в его частной жизни), во-вторых, пришедшей к нему из иных жанров. Правомерен вывод; жанровая сущность романа синтетична. Этот жанр способен с непринужденной свободой и беспрецедентной широтой соединять в себе содержательные начала множества жанров, как смеховых, так и серьезных. По-видимому, не существует жанрового начала, от которого роман остался бы фатально отчужденным.
Роман как жанр, склонный к синтетичности, резко отличен от иных, ему предшествовавших, являвшихся «специализированными» и действовавших на неких локальных «участках» художественного постижения мира. Он (как никакой другой) оказался способным сблизить литературу с жизнью в ее многоплановости и сложности, противоречивости и богатстве. Романная свобода освоения мира не имеет границ. И писатели различных стран и эпох пользуются этой свободой самым разным образом.
Многоликость романа создает для теоретиков литературы серьезные трудности. Едва ли не перед каждым, кто пытается охарактеризовать роман как таковой, в его всеобщих и необходимых свойствах, возникает соблазн своего рода синекдохи: подмены целого его частью. Так, О.Э. Мандельштам судил о природе этого жанра по «романам карьеры» XIX в., героев которых увлек небывалый успех Наполеона. В романах же, акцентировавших не волевую устремленность самоутверждающегося человека, а сложность его психологии и действие внутреннее, поэт усмотрел симптом упадка жанра и даже его конца. Т. Манн в своих суждениях о романе как исполненном мягкой и доброжелательной иронии опирался на собственный художественный опыт и в значительной мере на романы воспитания И. В. Гете.
Иную ориентацию, но тоже локальную (прежде всего на опыт Достоевского), имеет бахтинская теория. При этом романы писателя интерпретированы ученым очень своеобразно. Герои Достоевского, по мысли Бахтина, - это прежде всего носители идей (идеологии); их голоса равноправны, как и голос автора по отношению к каждому из них. В этом усматривается полифоничность, являющаяся высшей точкой романного творчества и выражением недогматического мышления писателя, понимания им того, что единая и полная истина «принципиально невместима в пределы одного сознания». Романистика Достоевского рассматривается Бахтиным как наследование античной «менипповой сатиры». Мениппея - это жанр, «свободный от предания», приверженный к «необузданной фантастике», воссоздающий «приключения идеи или правды в мире: и на земле, и в преисподней, и на Олимпе». Она, утверждает Бахтин, является жанром «последних вопросов», осуществляющим «морально-психологическое экспериментирование», и воссоздает «раздвоение личности», «необычные сны, страсти, граничащие с безумием.
Другие же, не причастные полифонии разновидности романа, где преобладает интерес писателей к людям, укорененным в близкой им реальности, и авторский «голос» доминирует над голосами героев, Бахтин оценивал менее высоко и даже отзывался о них иронически: писал о «монологической» односторонности и узости «романов усадебно-домашне-комнатно-квартирно-семейных», будто бы забывших о пребывании человека «на пороге» вечных и неразрешимых вопросов. При этом назывались Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров.
В многовековой истории романа явственно просматриваются два его типа, более или менее соответствующие двум стадиям литературного развития. Это, во-первых, произведения остро событийные, основанные на внешнем действии, герои которых стремятся к достижению каких-то локальных целей. Таковы романы авантюрные, в частности плутовские, рыцарские, «романы карьеры», а также приключенческие и детективные. Их сюжеты являют собой многочисленные сцепления событийных узлов (интриг, приключений и т. п.), как это имеет место, к примеру, в байроновском «Дон Жуане» или у А. Дюма.
Во-вторых, это романы, возобладавшие в литературе последние двух-трех столетий, когда одной из центральных проблем общественной мысли, художественного творчества и культуры в целом стало духовное самостоянье человека. С действием внешним здесь успешно соперничает внутреннее действие: событийность заметно ослабляется, и на первый план выдвигается сознание героя в его многоплановости и сложности, с его нескончаемой динамикой и психологическими нюансами (о психологизме в литературе см. с. 173–180). Персонажи подобных романов изображаются не только устремленными к каким-то частным целям, но и осмысляющими свое место в мире, уясняющими и реализующими свою ценностную ориентацию. Именно в этом типе романов специфика жанра, о которой шла речь, сказалась с максимальной полнотой. Близкая человеку реальность («ежедневная жизнь») осваивается здесь не в качестве заведомо «низкой прозы», но как причастная подлинной человечности, веяниям данного времени, универсальным бытийным началам, главное же - как арена серьезнейших конфликтов. Русские романисты XIX в. хорошо знали и настойчиво показывали, что «потрясающие события - меньшее испытание для человеческих отношений) чем будни с мелкими неудовольствиями».
Одна из важнейших черт романа и родственной ему повести (особенно в XIX–XX вв.) - пристальное внимание авторов к окружающей героев микросреде, влияние которой они испытывают и на которую так или иначе воздействуют. Вне воссоздания микросреды романисту «очень трудно показать внутренний мир личности». У истоков отныне упрочившейся романной формы - дилогия И.В. Гете о Вильгельме Мейстере (эти произведения Т. Манн назвал «углубленными во внутреннюю жизнь, сублимированными приключенческими романами»), а также «Исповедь» Ж.Ж. Руссо, «Адольф» Б. Констана, «Евгений Онегин», в котором передана присущая творениям А. С. Пушкина «поэзия действительности». С этого времени романы, сосредоточенные на связях человека с близкой ему реальностью и, как правило, отдающие предпочтение внутреннему действию, стали своего рода центром литературы. Они самым серьезным образом повлияли на все иные жанры, даже их преобразили. По выражению М.М. Бахтина, произошла романизация словесного искусства: когда роман приходит в «большую литературу», иные жанры резко видоизменяются, «в большей или меньшей степени "романизируются"». При этом трансформируются и структурные свойства жанров: их формальная организация становится менее строгой, более непринужденной и свободной. К этой (формально-структурной) стороне жанров мы и обратимся.
§ 4. Жанровые структуры и каноны
Литературные жанры (помимо содержательных, сущностных качеств) обладают структурными, формальными свойствами, имеющими разную меру определенности. На более ранних этапах (до эпохи классицизма включительно) на первый план выдвигались и осознавались как доминирующие именно формальные аспекты жанров. Жанрообразующими началами становились и стиховые размеры (метры), и строфическая организация («твердые формы», как их нередко именуют), и ориентация на те или иные речевые конструкции, и принципы построения. За каждым жанром были строго закреплены комплексы художественных средств. Жесткие предписания относительно предмета изображения, построения произведения и его речевой ткани оттесняли на периферию и даже нивелировали индивидуально-авторскую инициативу. Законы жанра властно подчиняли себе творческую волю писателей. «Древнерусские жанры, - пишет Д.С. Лихачев, - в гораздо большей степени связаны с определенными типами стиля, чем жанры нового времени Нас поэтому не удивят выражения «житийный стиль», «хронографический стиль», «летописный стиль», хотя, конечно, в пределах каждого жанра могут быть отмечены индивидуальные отклонения». Средневековое искусство, по словам ученого, «стремится выразить коллективное отношение к изображаемому. Отсюда многое в нем зависит не от творца произведения, а от жанра, к которому это произведение принадлежит Каждый жанр имеет свой строго выработанный традиционный образ автора, писателя, «исполнителя».
Традиционные жанры, будучи строго формализованы, существуют отдельно друг от друга, порознь. Границы между ними явственны и четки, каждый «работает» на своем собственном «плацдарме». Подобного рода жанровые образования являются Они следуют определенным нормам и правилам, которые вырабатываются традицией и обязательны для авторов. Канон жанра - это «определенная система устойчивых и твердых (курсив мой. - В.Х.) жанровых признаков».
Слово «канон» (от др. - гр. kanon - правило, предписание) составило название трактата древнегреческого скульптора Поликлета (V в. до н. э.). Здесь канон был осознан как совершенный образец, сполна реализующий некую норму. Каноничность искусства (в том числе - словесного) мыслится в этой терминологической традиции как неукоснительное следование художников правилам, позволяющее им приблизиться к совершенным образцам.
Жанровые нормы и правила (каноны) первоначально формировались стихийно, на почве обрядов с их ритуалами и традиций народной культуры. «И в традиционном фольклоре, и в архаической литературе жанровые структуры неотделимы от внелитературных ситуаций, жанровые законы непосредственно сливаются с правилами ритуального и житейского приличия».
Позже, по мере упрочнения в художественной деятельности рефлексии, некоторые жанровые каноны обрели облик четко сформулированных положений (постулатов). Регламентирующие указания поэтам, императивные установки едва ли не доминировали в учениях о поэзии Аристотеля и Горация, Ю.Ц. Скалигера и Н. Буало. В подобного рода нормативных теориях жанры, и без того обладавшие определенностью, обретали максимальную упорядоченность. Регламентация жанров, вершимая эстетической мыслью, достигла высшей точки в эпоху классицизма. Так, Н. Буало в третьей главе своего стихотворного трактата «Поэтическое искусство» сформулировал для основных групп литературных произведений весьма жесткие правила. Он, в частности, провозгласил принцип трех единств (места, времени, действия) как необходимый в драматических произведениях. Резко разграничивая трагедию и комедию, Буало писал:
Уныния и слез смешное вечный враг. С ним тон трагический несовместим никак, Но унизительно комедии серьезной Толпу увеселять остротою скабрезной. В комедии нельзя разнузданно шутить, Нельзя запутывать живой интриги нить, Нельзя от замысла неловко отвлекаться И мыслью в пустоте все время растекаться.
Главное же, нормативная эстетика (от Аристотеля до Буало и Сумарокова) настаивала на том, чтобы поэты следовали непререкаемым жанровым образцам, каковы прежде всего эпопеи Гомера, трагедии Эсхила и Софокла.
В эпохи нормативных поэтик (от античности до XVII–XVIII вв.) наряду с жанрами, которые рекомендовались и регламентировались теоретиками («жанрами de jure», по выражению С.С. Аверинцева), существовали и «жанры de facto», в течение ряда столетий не получавшие теоретического обоснования, но тоже обладавшие устойчивыми структурными свойствами и имевшие определенные содержательные «пристрастия». Таковы сказки, басни, новеллы и подобные последним смеховые сценические произведения, а также многие традиционные лирические жанры (включая фольклорные).
Жанровые структуры видоизменились (и весьма резко) в литературе последних двух-трех столетий, особенно - в постромантические эпохи. Они стали податливыми и гибкими, утратили каноническую строгость, а потому открыли широкие просторы для проявления индивидуально-авторской инициативы. Жесткость разграничения жанров себя исчерпала и, можно сказать, канула в Лету вместе с классицистической эстетикой, которая была решительно отвергнута в эпоху романтизма. «Мы видим, - писал В. Гюго в своем программном предисловии к драме «Кромвель», - как быстро рушится произвольное деление жанров перед доводами разума и вкуса».
«Деканонизация» жанровых структур дала о себе знать уже в XVIII в. Свидетельства тому - произведения Ж.Ж. Руссо и Л. Стерна. Романизация литературы последних двух столетий знаменовала ее «выход» за рамки жанровых канонов и одновременно - стирание былых границ между жанрами. В XIX–XX вв. «жанровые категории теряют четкие очертания, модели жанров в большинстве своем распадаются». Это, как правило, уже не изолированные друг от друга явления, обладающие ярко выраженным набором свойств, а группы произведений, в которых с большей или меньшей отчетливостью просматриваются те или иные формальные и содержательные предпочтения и акценты.
Литература последних двух столетий (в особенности XX в.) побуждает говорить также о наличии в ее составе произведений, лишенных жанровой определенности, каковы многие драматические произведения с нейтральным подзаголовком «пьеса», художественная проза эссеистского характера, а также многочисленные лирические стихотворения, не укладывающиеся в рамки каких-либо жанровых классификаций. В.Д. Сквозников отметил) что в лирической поэзии XIX в., начиная с В. Гюго, Г. Гейне, М.Ю. Лермонтова, «исчезает былая жанровая определенность»: «… лирическая мысль обнаруживает тенденцию ко все более синтетическому выражению», происходит «атрофия жанра в лирике». «Как ни расширять понятие элегичности, - говорится о стихотворении М.Ю. Лермонтова «1-го января», - все равно не уйти от того очевидного обстоятельства, что лирический шедевр перед нами налицо, а жанровая природа его совершенно неопределенна. Вернее - ее вовсе нет, потому что она ничем не ограничена».
Вместе с тем обладающие устойчивостью жанровые структуры не утратили своего значения ни в пору романтизма, ни в последующие эпохи. Продолжали и продолжают существовать традиционные, имеющие многовековую историю жанры с их формальными (композиционно-речевыми) особенностями (ода, басня, сказка). «Голоса» давно существующих жанров и голос писателя как творческой индивидуальности каждый раз как-то по-новому сливаются воедино в произведениях А.С. Пушкина. В стихотворениях эпикурейского звучания (анакреонтическая поэзия) автор подобен Анакреону, Парни, раннему К.Н. Батюшкову, а вместе с тем весьма ярко проявляет себя (вспомним «Играй, Адель, не знай печали…» или «От меня вечор Леила…»). Как создатель торжественной оды «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» поэт, уподобляя себя Горацию и Г.Р. Державину, отдавая дань их художнической манере, в то же время выражает собственное credo, совершенно уникальное. Пушкинские сказки, самобытные и неповторимые, в то же время органически причастны традициям этого жанра, как фольклорным, так и литературным. Вряд ли человек, впервые знакомящийся с названными творениями, сможет ощутить, что они принадлежат одному автору: в каждом из поэтических жанров великий поэт проявляет себя совершенно по-новому, оказываясь не похожим сам на себя. Таков не только Пушкин. Разительно не сходны между собой лироэпические поэмы М.Ю. Лермонтова в традиции романтизма («Мцыри», «Демон») с его народно - поэтической «Песней про купца Калашникова». Подобного рода «протеическое» самораскрытие авторов в различных жанрах усматривают современные ученые и в западноевропейских литературах Нового времени: «Аретино, Боккаччо, Маргарита Наваррская, Эразм Роттердамский, даже Сервантес и Шекспир в разных жанрах предстают как бы разными индивидуальностями».
Структурной устойчивостью обладают и вновь возникшие в XIX–XX вв. жанровые образования. Так, несомненно наличие определенного формально-содержательного комплекса в лирической поэзии символистов (тяготение к универсалиям и особого рода лексике, семантическая усложненность речи, апофеоз таинственности и т. п.). Неоспоримо наличие структурной и концептуальной общности в романах французских писателей 1960–1970-х годов (М. Бюгор, А. Роб-Грийе, Н. Саррот и др.).
Суммируя сказанное, отметим, что литература знает два рода жанровых структур. Это, во-первых, готовые, завершенные, твердые формы (канонические жанры), неизменно равные самим себе (яркий пример такого жанрового образования - сонет, живой и ныне), и, во-вторых, жанровые формы неканонические: гибкие, открытые всяческим трансформациям, перестройкам, обновлениям, каковы, к примеру, элегии или новеллы в литературе Нового времени. Эти свободные жанровые формы в близкие нам эпохи соприкасаются и сосуществуют с внежанровыми образованиями, но без какого-то минимума устойчивых структурных свойств жанров не бывает.
§ 5. Жанровые системы. Канонизация жанров
В каждый исторический период жанры соотносятся между собой по-разному. Они, по словам Д.С. Лихачева, «вступают во взаимодействие, поддерживают существование друг друга и одновременно конкурируют друг с другом»; поэтому нужно изучать не только отдельные жанры и их историю, но и «систему жанров каждой данной эпохи».
При этом жанры определенным образом оцениваются читающей публикой, критиками, создателями «поэтик» и манифестов, писателями и учеными. Они трактуются как достойные или, напротив, не достойные внимания художественно просвещенных людей; как высокие и низкие; как поистине современные либо устаревшие, себя исчерпавшие; как магистральные или маргинальные (периферийные). Эти оценки и трактовки создают иерархии жанров, которые со временем меняются. Некоторые из жанров, своего рода фавориты, счастливые избранники, получают максимально высокую оценку со стороны каких-либо авторитетных инстанций, - оценку, которая становится общепризнанной или по крайней мере обретает литературно-общественную весомость. Подобного рода жанры, опираясь на терминологию формальной школы, называют канонизированными. (Заметим, что это слово имеет иное значение, нежели термин «канонический», характеризующий жанровую структуру.) По выражению В. Б. Шкловского, определенная часть литературной эпохи «представляет ее канонизированный гребень», другие же ее звенья существуют «глухо», на периферии, не становясь авторитетными и не приковывая к себе внимания. Канонизированной (опять-таки вслед за Шкловским) именуют также (см. с. 125–126, 135) ту часть литературы прошлого, которая признана лучшей, вершинной, образцовой, т. е. классикой. У истоков этой терминологической традиции - представление о сакральных текстах, получивших официальную церковную санкцию (канонизированных) в качестве непререкаемо истинных.
Канонизация литературных жанров осуществлялась нормативными поэтиками от Аристотеля и Горация до Буало, Ломоносова и Сумарокова. Аристотелевский трактат придал высочайший статус трагедии и эпосу (эпопее). Эстетика классицизма канонизировала также «высокую комедию», резко отделив ее от комедии народно-фарсовой как жанра низкого и неполноценного.
Иерархия жанров имела место и в сознании так называемого массового читателя (см. с. 120–123). Так, русские крестьяне на рубеже XIX–XX вв. отдавали безусловное предпочтение «божественным книгам» и тем произведениям светской литературы, которые с ними перекликались. Жития святых (чаще всего доходившие до народа в виде книжек, написанных безграмотно, «варварским языком») слушались и читались «с благоговением, с восторженной любовью, с широко раскрытыми глазами и с такою же широко раскрытой душой». Произведения же развлекательного характера, именовавшиеся «сказками», расценивались как жанр низкий. Они бытовали весьма широко, но вызывали к себе пренебрежительное отношение и награждались нелестными эпитетами («побасенки», «побасульки», «чепуха» и т. п.).
Канонизация жанров имеет место и в «верхнем» слое литературы. Так, в пору романтизма, ознаменовавшуюся радикальной жанровой перестройкой, на вершину литературы были вознесены фрагмент, сказка, а также роман (в духе и манере «Вильгельма Мейстера» И.В. Гете). Литературная жизнь XIX в. (особенно в России) отмечена канонизацией социально-психологических романов и повестей, склонных к жизнеподобию, психологизму, бытовой достоверности. В XX в. предпринимались опыты (в разной мере успешные) канонизации мистериальной драматургии (концепция символизма), пародии (формальная школа), романа-эпопеи (эстетика социалистического реализма 1930–1940-х годов), а также романов Ф.М. Достоевского как полифонических (1960–1970-е годы); в западноевропейской литературной жизни - романа «потока сознания» и абсурдистской драматургии трагикомического звучания. Весьма высок ныне авторитет мифологического начала в составе романной прозы.
Если в эпохи нормативных эстетик канонизировались высокие жанры, то в близкие нам времена иерархически поднимаются те жанровые начала, которые раньше находились вне рамок «строгой» литературы. Как отмечал В.Б. Шкловский, происходит канонизация новых тем и жанров, дотоле бывших побочными, маргинальными, низкими: «Блок канонизирует темы и темпы «цыганского романса», а Чехов вводит «Будильник» в русскую литературу. Достоевский возводит в литературную норму приемы бульварного романа». При этом традиционные высокие жанры вызывают к себе отчужденно-критическое отношение, мыслятся как исчерпанные. «В смене жанров любопытно постоянное вытеснение высоких жанров низкими», - отмечал Б.В. Томашевский, констатируя в литературной современности процесс «канонизации низких жанров». По мысли ученого, последователи высоких жанров обычно становятся эпигонами. В том же духе несколько позже высказывался М.М. Бахтин. Традиционные высокие жанры, по его словам, склонны к «ходульной героизации», им присущи условность, «неизменная поэтичность», «однотонность и абстрактность».
В XX в., как видно, иерархически возвышаются по преимуществу жанры новые (или принципиально обновленные) в противовес тем, которые были авторитетны в предшествующую эпоху. При этом места лидеров занимают жанровые образования, обладающие свободными, открытыми структурами: предметом канонизации парадоксальным образом оказываются жанры неканонические, предпочтение отдается всему тому в литературе, что непричастно формам готовым, устоявшимся, стабильным.
§ 6. Жанровые конфронтации и традиции
В близкие нам эпохи, отмеченные возросшим динамизмом и многоплановостью художественной жизни, жанры неминуемо вовлекаются в борьбу литературных группировок, школ, направлений. При этом жанровые системы претерпевают изменения более интенсивные и стремительные, чем в прошлые столетия. Об этой стороне бытования жанров говорил Ю.Н. Тынянов, утверждавший, что «готовых жанров нет» и что каждый из них, меняясь от эпохи к эпохе, приобретает то большее значение, выдвигаясь в центр, то, напротив, отодвигаясь на второй план или даже прекращая свое существование: «В эпоху разложения какого-нибудь жанра он из центра перемещается на периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин всплывает в центр новое явление». Так, в 1920-е годы центр внимания литературной и окололитературной среды сместился с социально-психологического романа и традиционно-высокой лирики на пародийные и сатирические жанры, а также на прозу авантюрного характера, о чем Тынянов говорил в статье «Промежуток».
Подчеркнув и, на наш взгляд, абсолютизировав стремительную динамику бытования жанров, Ю.Н. Тынянов сделал весьма резкий вывод, отвергающий значимость межэпохальных жанровых феноменов и связей: «Изучение изолированных жанров вне знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся, невозможно. Исторический роман Толстого не соотнесен с историческим романом Загоскина, а соотносится с современной ему прозой». Подобного рода акцентирование внутриэпохальных жанровых противостояний нуждается в некоторой корректировке. Так, «Войну и мир» Л.Н. Толстого (отметим, дополняя Тынянова) правомерно соотнести не только с литературной ситуацией 1860-х годов, ной - в качестве звеньев одной цепи - с романом М.Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» (здесь немало перекличек, далеко не случайных), и со стихотворением М.Ю. Лермонтова «Бородино» (о влиянии на него этого стихотворения говорил сам Толстой), и с рядом исполненных национальной героики повестей древнерусской литературы.
Соотношения между динамизмом и стабильностью в существовании жанров от поколения к поколению, от эпохи к эпохе нуждаются в обсуждении непредвзятом и осторожном, свободном от «направленческих» крайностей. Наряду с жанровыми конфронтациями в составе литературной жизни принципиально значимы жанровые традиции: преемственность в этой сфере (о преемственности и традиции см. с. 352–356)
Жанры составляют важнейшее связующее звено между писателями разных эпох, без которого развитие литературы непредставимо. По словам С.С. Аверинцева, «фон, на котором можно рассматривать силуэт писателя, всегда двусоставен: любой писатель - современник своих современников, товарищей по эпохе, но также продолжатель своих предшественников, товарищей по жанру». Литературоведы неоднократно говорили о «памяти жанра» (М.М. Бахтин), о тяготеющем над понятием жанра «грузе консерватизма» (Ю.В. Стенник), о «жанровой инерции» (С.С. Аверинцев).
Споря с литературоведами, которые связывали существование жанров прежде всего с внутриэпохальными конфронтациями, борьбой направлений и школ, с «поверхностной пестротой и шумихой литературного процесса», М.М. Бахтин писал: «Литературный жанр по самой своей природе отражает наиболее устойчивые, «вековечные» тенденции развития литературы. В жанре всегда сохраняются неумирающие элементы архаики. Правда, эта. архаика сохраняется в нем только благодаря постоянному ее обновлению, так сказать, осовременению Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом индивидуальном произведении данного жанра Поэтому и архаика, сохраняющаяся в жанре, не мертвая, а вечно живая, то есть способная обновляться Жанр - представитель творческой памяти в процессе литературного развития. Именно поэтому жанр и способен обеспечить единство и непрерывность этого развития». И далее: «Чем выше и сложнее развился жанр, тем он лучше и полнее помнит свое прошлое».
Эти суждения (опорное в бахтинской концепции жанра) нуждаются в критической корректировке. К архаике восходят далеко не все жанры. Многие из них имеют более позднее происхождение, каковы, к примеру, жития или романы. Но в главном Бахтин прав: жанры существуют в большом историческом времени, им суждена жизнь долгая. Это - явления надэпохальные.
Жанры, таким образом, осуществляют начало преемственности и стабильности в литературном развитии. При этом в процессе эволюции литературы уже существующие жанровые образования неминуемо обновляются, а также возникают и упрочиваются новые; меняются соотношения между жанрами и характер взаимодействия между ними.
§ 7. Литературные жанры в соотнесении с внехудожественной реальностью
Жанры литературы связаны с внехудожественной реальностью узами весьма тесными и разноплановыми. Жанровая сущность произведений порождается всемирно значимыми явлениями культурно-исторической жизни. Так, основные черты давнего героического эпоса были предопределены особенностями эпохи становления этносов и государств (об истоках героики см. с. 70). А активизация романного начала в литературах Нового времени обусловлена тем, что именно в эту пору духовное самостоянье человека стало одним из важнейших феноменов первичной реальности.
Эволюция жанровых форм (напомним: всегда содержательно значимых) во многом зависит и от сдвигов в собственно социальной сфере, что показано Г. В. Плехановым на материале французской драматургии XVII–XVIII вв., проделавшей путь от трагедий классицизма к «мещанской драме» эпохи Просвещения.
Жанровые структуры как таковые (подобно родовым) - это преломление форм внехудожественного бытия, как социально-культурного, так и природного. Принципы композиции произведений, закрепляемые жанровой традицией, отражают структуру жизненных явлений. Сошлюсь на суждение художника-графика: «Иногда можно услышать спор есть ли композиция в природе? Есть! Поскольку эту композицию нашел художник и возвысил художник». Организация художественной речи в том или ином жанре тоже неизменно зависит от форм внехудожественных высказываний (ораторских и разговорных, фамильярно-публичных и интимных, и т. п.). Об этом говорил немецкий философ первой половины XIX в. Ф. Шлейермахер. Он отметил, что драма при ее возникновении взяла из жизни бытующие повсюду разговоры, что хор трагедий и комедий древних греков имеет свой первоисточник во встрече отдельного человека с народом, а жизненный прообраз художественной формы эпоса есть рассказ.
Формы речи, воздействующие на литературные жанры, как это показал М.М. Бахтин, весьма разнообразны: «Все наши высказывания обладают определенными и относительно устойчивыми типическими формами построения целого. Мы обладаем богатым репертуаром устных (и письменных) речевых жанров». Ученый разграничил речевые жанры первичные, сложившиеся «в условиях непосредственного речевого общения» (устная беседа, диалог), и вторичные, идеологические (ораторство, публицистика, научные и философские тексты). Художественно-речевые жанры, по мысли ученого, относятся к числу вторичных; в своем большинстве они состоят «из различных трансформированных первичных жанров (реплик диалога, бытовых рассказов, писем, протоколов и т. п.)».
Жанровые структуры в литературе (и обладающие канонической строгостью, и от нее свободные), как видно, имеют жизненные аналоги, которыми обусловливается их появление и упрочение. Это - сфера генезиса (происхождения) литературных жанров.
Значима и другая, рецептивная (см. с. 115) сторона связей словесно-художественных жанров с первичной реальностью. Дело в том, что произведение того или иного жанра (обратимся еще раз к М.М. Бахтину) ориентировано на определенные условия восприятия: «… для каждого литературного жанра характерны свои особые концепции адресата литературного произведения, особое ощущение и понимание своего читателя, слушателя, публики, народа».
Специфика функционирования жанров наиболее явственна на ранних этапах существования словесного искусства. Вот что говорит Д.С. Лихачев о древнерусской литературе: «Жанры определяются их употреблением: в богослужении (в его разных частях), в юридической и дипломатической практике (статейные списки, летописи, повести о княжеских преступлениях), в обстановке княжеского быта (торжественные слова, славы и т. д.)». Подобным образом классицистическая ода XVII–XVIII вв. составляла звено торжественного дворцового ритуала.
Неминуемо связаны с определенной обстановкой восприятия и фольклорные жанры. Комедии фарсового характера первоначально составляли часть массового празднества и бытовали в его составе. Сказка исполнялась в часы досуга и адресовалась небольшому числу людей. Сравнительно недавно появившаяся частушка - жанр городской или деревенской улицы.
Уйдя в книгу, словесное искусство ослабило связи с жизненными формами его освоения: чтение художественной литературы успешно осуществляется в любой обстановке. Но и здесь восприятие произведения зависит от его жанрово-родовых свойств. Драма в чтении вызывает ассоциации со сценическим представлением, повествование в сказовой форме будит в воображении читателя ситуацию живой и непринужденной беседы. Семейно-бытовые романы и повести, пейзажные очерки, дружеская и любовная лирика с присущей этим жанрам задушевной тональностью способны вызывать у читателя ощущение обращенности автора именно к нему как индивидуальности: возникает атмосфера доверительного, интимного контакта. Чтение же традиционно-эпических, исполненных героики произведений порождает у читателя чувство душевного слияния с неким весьма широким и емким «мы». Жанр, как видно, является одним из мостов, соединяющих писателя и читателя, посредником между ними.
Понятие «литературный жанр» в XX в. неоднократно отвергалось. «Бесполезно интересоваться литературными жанрами, - утверждал вслед за итальянским философом Б. Кроче французский литературовед П. ван Тигем, - которым следовали великие писатели прошлого; они взяли самые древние формы - эпопею, трагедию, сонет, роман - не все ли равно? Главное - то, что они преуспели. Стоит ли заниматься исследованием сапогов, в которые был обут Наполеон в утро Аустерлица?».
На другом полюсе осмысления жанров - суждение о них М.М. Бахтина как о «ведущих героях» литературного процесса. Сказанное выше побуждает присоединиться ко второму взгляду, сделав, однако, корректирующее уточнение: если в «доромантические» эпохи лицо литературы действительно определялось прежде всего законами жанра, его нормами, правилами, канонами, то в XIX–XX вв. поистине центральной фигурой литературного процесса стал автор с его широко и свободно осуществляемой творческой инициативой. Жанр отныне оказался «лицом вторым», но отнюдь не утратил своего значения.
§ 2.Происхождение литературных родов
Эпос, лирика и драма сформировались на самых ранних этапах существования общества, в первобытном синкретическом творчестве. Происхождению литературных родов посвятил первую из трех глав своей «Исторической поэтики» А.Н. Веселовский, один из крупнейших русских историков и теоретиков литературы XIX в. Ученый доказывал, что литературные роды возникли из обрядового хора первобытных народов, действия которого являли собой ритуальные игры-пляски, где подражательные телодвижения сопровождались пением – возгласами радости или печали. Эпос, лирика и драма трактовались Веселовским как развившиеся из «протоплазмы» обрядовых «хорических действий».
Из возгласов наиболее активных участников хора (запевал, корифеев) выросли лиро-эпические песни (кантилены), которые со временем отделились от обряда: «Песни лирико-эпического характера представляются первым естественным выделением из связи хора и (297) обряда». первоначальной формой собственно поэзии явилась, стало быть, лиро-эпическая песня. На основе таких песен впоследствии сформировались эпические повествования. А из возгласов хора как такового выросла лирика (первоначально групповая, коллективная), со временем тоже отделившаяся от обряда. Эпос и лирика, таким образом, истолкованы Веселовским как «следствие разложения древнего обрядового хора». Драма, утверждает ученый, возникла из обмена репликами хора и запевал. И она (в отличие от эпоса и лирики), обретя самостоятельность, вместе с тем «сохранила весь <...> синкретизм» обрядового хора и явилась неким его подобием 1 .
Теория происхождения литературных родов, выдвинутая Веселовским, подтверждается множеством известных современной науке фактов о жизни первобытных народов. Так, несомненно происхождение драмы из обрядовых представлений: пляска и пантомима постепенно все активнее сопровождались словами участников обрядового действия. Вместе с тем в теории Веселовского не учтено, что эпос и лирика могли формироваться и независимо от обрядовых действий. Так, мифологические сказания, на основе которых впоследствии упрочились прозаические легенды (саги) и сказки, возникли вне хора. Они не пелись участниками массового обряда, а рассказывались кем-либо из представителей племени (и, вероятно, далеко не во всех случаях подобное рассказывание было обращено к большому числу людей). Лирика тоже могла формироваться вне обряда. Лирическое самовыражение возникало в производственных (трудовых) и бытовых отношениях первобытных народов. Существовали, таким образом, разные пути формирования литературных родов. И обрядовый хор был одним из них.
§3. Эпос
В эпическом роде литературы (др. -гр. epos – слово, речь) организующим началом произведения является повествование о персонажах (действующих лицах), их судьбах, поступках, умонастроениях, о событиях в их жизни, составляющих сюжет. Это – цепь словесных сообщений или, проще говоря, рассказ о происшедшем ранее. Повествованию присуща временная дистанция между ведением речи и предметом словесных обозначений. Оно (вспомним Аристотеля: поэт рассказывает «о событии как о чем-то отдельном от себя») ведется со стороны и, как правило, имеет грамматическую форму прошедшего времени. Для повествующего (рассказывающего) характерна позиция человека, вспоминающего об имевшем место ранее. Дистанция между временем изображаемого действия и временем повествования о нем составляет едва ли не самую существенную черту эпической формы. (298)
Слово «повествование» в применении к литературе используется по-разному. В узком смысле – это развернутое обозначение словами того, что произошло однажды и имело временную протяженность. В более широком значении повествование включает в себя также описания, т.е. воссоздание посредством слов чего-то устойчивого, стабильного или вовсе неподвижного (таковы большая часть пейзажей, характеристики бытовой обстановки, черт наружности персонажей, их душевных состояний). Описаниями являются также словесные изображения периодически повторяющегося. «Бывало, он еще в постеле: / К нему записочки несут»,–говорится, например, об Онегине в первой главе пушкинского романа. Подобным же образом в повествовательную ткань входят авторские рассуждения, играющие немалую роль у Л. Н. Толстого, А. Франса, Т. Манна.
В эпических произведениях повествование подключает к себе и как бы обволакивает высказывания действующих лиц – их диалоги и монологи, в том числе внутренние, с ними активно взаимодействуя, их поясняя, дополняя и корректируя. И художественный текст оказывается сплавом повествовательной речи и высказываний персонажей.
Произведения эпического рода сполна используют арсенал художественных средств, доступных литературе, непринужденно и свободно осваивают реальность во времени и пространстве. При этом они не знают ограничений в объеме текста. Эпос как род литературы включает в себя как короткие рассказы (средневековая и возрожденческая новеллистика; юмористика О’Генри и раннего А.П. Чехова), так и произведения, рассчитанные на длительное слушание или чтение: эпопеи и романы, охватывающие жизнь с необычайной широтой. Таковы индийская «Махабхарата», древнегреческие «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси, «Унесенные ветром» М. Митчелл.
Эпическое произведение может «вобрать» в себя такое количество характеров, обстоятельств, событий, судеб, деталей, которое недоступно ни другим родам литературы, ни какому-нибудь иному виду искусства. При этом повествовательная форма способствует глубочайшему проникновению во внутренний мир человека. Ей вполне доступны характеры сложные, обладающие множеством черт и свойств, незавершенные и противоречивые, находящиеся в движении, становлении, развитии.
Эти возможности эпического рода литературы используются далеко не во всех произведениях. Но со словом «эпос» прочно связано представление о художественном воспроизведении жизни в ее целостности, о раскрытии сущности эпохи, о масштабности и монументальности творческого акта. Не существует (ни в сфере словесного искусства, ни за его пределами) групп художественных произведений, которые бы так свободно проникали одновременно и в глубину (299) человеческого сознания и в ширь бытия людей, как это делают повести, романы, эпопеи.
В эпических произведениях глубоко значимо присутствие повествователя. Это – весьма специфическая форма художественного воспроизведения человека. Повествователь является посредником между изображенным и читателем, нередко выступая в роли свидетеля и истолкователя показанных лиц и событий.
Текст эпического произведения обычно не содержит сведений о судьбе повествующего, об его взаимоотношениях с действующими лицами, о том) когда, где и при каких обстоятельствах ведет он свой рассказ, об его мыслях и чувствах. Дух повествования, по словам Т. Манна, часто бывает «невесом, бесплотен и вездесущ»; и «нет для него разделения между «здесь» и «там» 1 . А вместе с тем речь повествователя обладает не только изобразительностью, но и выразительной значимостью; она характеризует не только объект высказывания, но и самого говорящего. В любом эпическом произведении запечатлевается манера воспринимать действительность, присущая тому, кто повествует, свойственные ему видение мира и способ мышления. В этом смысле правомерно говорить об образе повествователя. Понятие это прочно вошло в обиход литературоведения благодаря Б. М. Эйхенбауму, В.В. Виноградову, М.М. Бахтину (работы 1920-х годов). Суммируя суждения этих ученых, Г.А. Гуковский в 1940-е годы писал: «Всякое изображение в искусстве образует представление не только об изображенном, но и об изображающем, носителе изложения <...> Повествователь – это не только более или менее конкретный образ <„.> но и некая образная идея, принцип и облик носителя речи, или иначе – непременно некая точка зрения на излагаемое, точка зрения психологическая, идеологическая и попросту географическая, так как невозможно описывать ниоткуда и не может быть описания без описателя» 1 .
Эпическая форма, говоря иначе, воспроизводит не только рассказываемое, но и рассказывающего, она художественно запечатлевает манеру говорить и воспринимать мир, а в конечном счете – склад ума и чувств повествователя. Облик повествователя обнаруживается не в действиях и не в прямых излияниях души, а в своеобразном повествовательном монологе. Выразительные начала такого монолога, являясь его вторичной функцией, вместе с тем очень важны.
Не может быть полноценного восприятия народных сказок без пристального внимания к их повествовательной манере, в которой за наивностью и бесхитростностью того, кто ведет рассказ, угадываются веселость и лукавство, жизненный опыт и мудрость. Невозможно почувствовать прелесть героических эпопей древности, не уловив (300) возвышенного строя мыслей и чувств рапсода и сказителя. И уж тем более немыслимо понимание произведений А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и И. С. Тургенева, А. П. Чехова и И. А. Бунина, М. А. Булгакова и А. П. Платонова вне постижения «голоса» повествователя. Живое восприятие эпического произведения всегда связано с пристальным вниманием к той манере, в которой ведется повествование. Чуткий к словесному искусству читатель видит в рассказе, повести или романе не только сообщение о жизни персонажей с ее подробностями, но и выразительно значимый монолог повествователя.
Литературе доступны разные способы повествования. Наиболее глубоко укоренен и Представлен тип повествования, при котором между персонажами и тем, кто сообщает о них, имеет место, так сказать, абсолютная дистанция. Повествователь рассказывает о событиях с невозмутимым спокойствием. Ему внятно все, присущ дар «всеведения». И его образ, образ существа, вознесшегося над миром, придает произведению колорит максимальной объективности. Многозначительно, что Гомера нередко уподобляли небожителям-олимпийцам и называли «божественным».
Художественные возможности такого повествования рассмотрены в немецкой классической эстетике эпохи романтизма. В эпосе «нужен рассказчик,–читаем мы у Шеллинга,–который невозмутимостью своего рассказа постоянно отвлекал бы нас от слишком большого участия к действующим лицам и направлял внимание слушателей на чистый результат». И далее: «Рассказчик чужд действующим лицам <...> он не только превосходит слушателей своим уравновешенным созерцанием и настраивает своим рассказом на этот лад, но как бы заступает место "необходимости"» 2 .
Основываясь на таких формах повествования, восходящих к Гомеру, классическая эстетика XIX в. утверждала, что эпический род литературы – это художественное воплощение особого, «эпического» миросозерцания, которое отмечено максимальной широтой взгляда на жизнь и ее спокойным, радостным приятием.
Сходные мысли о природе повествования высказал Т. Манн в статье «Искусство романа»: «Быть может, стихия повествования, это вечно-гомеровское начало, этот вещий дух минувшего, который бесконечен, как мир, и которому ведом весь мир, наиболее полно и достойно воплощает стихию поэзии». Писатель усматривает в повествовательной форме воплощение духа иронии, которая является не холодно-равнодушной издевкой, но исполнена сердечности и любви: «...это величие, питающее нежность к малому», «взгляд с высоты свободы, покоя и объективности, не омраченный никаким морализаторством» 3 . (301)
Подобные представления о содержательных основах эпической формы (при всем том, что они опираются на многовековой художественный опыт) неполны и в значительной мере односторонни. Дистанция между повествователем и действующими лицами актуализируется не всегда. Об этом свидетельствует уже античная проза: в романах «Метаморфозы» («Золотой осел») Апулея и «Сатирикон» Петрония персонажи сами рассказывают о виденном и испытанном. В таких произведениях выражается взгляд на мир, не имеющий ничего общего с так называемым «эпическим миросозерцанием».
В литературе последних двух-трех столетий едва ли не возобладало субъективное повествование. Повествователь стал смотреть на мир глазами одного из персонажей, проникаясь его мыслями и впечатлениями. Яркий пример тому – подробная картина сражения при Ватерлоо в «Пармской обители» Стендаля. Эта битва воспроизведена отнюдь не по-гомеровски: повествователь как бы перевоплощается в героя, юного Фабрицио, и смотрит на происходящее его глазами. Дистанция между ним и персонажем практически исчезает, точки зрения обоих совмещаются. Такому способу изображения порой отдавал дань Толстой. Бородинская битва в одной из глав «Войны и мира» показана в восприятии не искушенного в военном деле Пьера Безухова; военный совет в Филях подан в виде впечатлений девочки Малаши. В «Анне Карениной» скачки, в которых участвует Вронский, воспроизведены дважды: один раз пережитые им самим, другой – увиденные глазами Анны. Нечто подобное свойственно произведениям Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова, Г. Флобера и Т. Манна. Герой, к которому приблизился повествователь, изображается как бы изнутри. «Нужно перенестись в действующее лицо»,– замечал Флобер. При сближении повествователя с кем-либо из героев широко используется несобственно-прямая речь, так что голоса повествующего и действующего лица сливаются воедино. Совмещение точек зрения повествователя и персонажей в литературе XIX–XX вв. вызвано возросшим художественным интересом к своеобразию внутреннего мира людей, а главное –пониманием жизни как совокупности непохожих одно на другое отношений к реальности, качественно различных кругозоров и ценностных ориентаций 1 .
Наиболее распространенная форма эпического повествования – это рассказ от третьего лица. Но повествующий вполне может выступить в произведении как некое «я». Таких персонифицированных (302) повествователей, высказывающихся от собственного, «первого» лица, естественно называть рассказчиками. Рассказчик нередко является одновременно и персонажем произведения (Максим Максимыч в повести «Бэла» из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова, Гринев в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина, Иван Васильевич в рассказе Л.Н. Толстого «После бала», Аркадий Долгорукий в «Подростке» Ф. М. Достоевского).
Фактами своей жизни и умонастроениями многие из рассказчиков-персонажей близки (хотя и не тождественны) писателям. Это имеет место в автобиографических произведениях (ранняя трилогия Л.Н. Толстого, «Лето Господне» и «Богомолье» И.С. Шмелева). Но чаще судьба, жизненные позиции, переживания героя, ставшего рассказчиком, заметно отличаются от того, что присуще автору («Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Моя жизнь» А.П. Чехова). При этом в ряде произведений (эпистолярная, мемуарная, сказовая формы) повествующие высказываются в манере, которая не тождественна авторской и порой с ней расходится весьма резко (о чужом слове см. с. 248–249). Способы повествования, используемые в эпических произведениях, как видно, весьма разнообразны.
В древнейшие времена искусство носило синкретический (греч. synkretismos – соединение) характер. Музыка, танец и поэзия (песня или просто ритмические звуки и телодвижения) не существовали по отдельности. Постепенно каждая из этих категорий первобытного искусства обособилась. Так возникли различные области искусства, причем внутри каждой из них также происходило дальнейшее размежевание. Внутри литературы определились три самостоятельных раздела или рода – эпос, лирика и драма.
Каждый из родов соответствует определенной функции поэтического слова и разрабатывает ее художественную специфику.
Эпос (греч. epos – слово, речь, рассказ) – зародившаяся в глубокой древности эпическая форма поэзии представляет собой повествование о важном для всего племени или народа событии. Повествование это могло быть как стихотворным, так и прозаическим. В эпосе события предстают как бы не зависящими от рассказчика, который стремится к максимальной объективности изображения и словно отсутствует в произведении. Только в XVIII–XX веках автор перестает скрывать свое присутствие и начнет напрямую обращаться к читателю. Со временем формы и функции эпоса усложняются и развиваются.
В эпосе начинают использоваться разнообразные способы передачи событий. Вначале это, как уже отмечалось, был безличный рассказ, в котором подробно описывался внешний вид действующих лиц и предметов, их окружающих. Персонажи в эпосе прибегают к монологам и диалогам; повествование обычно ведется в прошедшем времени. В эпосе нового времени автор уже становится участником и режиссером событий, причем при их изображении употребляются все временны́е формы.
Лирика (греч. lyricos – поющееся под звуки лиры) определялась Аристотелем как повествование, в котором "подражающий остается самим собой, не изменяя своего лица". Другими словами, лирика передает внутренний мир личности, отражает ее эмоции.
Драма (греч. drama – действие). Драма предназначается для постановки на сцене и основана на действии, направленном на разрешение какого-либо конфликта. Происходящее в драме воспринимается как совершающееся в настоящий момент, хотя события, воспроизводящиеся в драме, могут быть отнесены к прошлому или будущему. В отличие от эпоса и лирики драма оперирует только собственной речью персонажей (монологи и диалоги). Если эпос и лирика имеют внутреннее членение на отдельные эпизоды (главы, строфы) и членение это в значительной мере произвольно (главы могут быть пространными и краткими), то в драме такое членение обусловлено более жестко. Для удобства зрителей и концентрации сил актеров драма обычно делится на равные по объему акты или действия с паузами (антрактами) между ними.
Литературные роды в силу давней традиции тяготеют к синтезу между собой и другими видами искусства. Так, для эпоса показателен союз с живописью и графикой (античные фрески и изображения на бытовой утвари, как правило, иллюстрируют важнейшие события эпоса, а книга впоследствии обрастает "картинками"). Лирика же, особенно на ранних стадиях развития, была неотделима от музыки. И ныне некоторые разновидности лирики напрямую связаны с пением и музыкальным сопровождением. Драма первоначально была близка к пантомиме (греч. pantomimos – подражающий всему) – сольному драматизированному танцу, а впоследствии обрела и словесное выражение. Находят применение в драме и изобразительное искусство (декорации) и музыка (водевиль, опера).
Литературные роды также имеют тенденцию к взаимопроникновению. В эпосе встречаются элементы драмы и лирики, в лирике – эпоса и т. д.
Традиция родового членения, заложенная Аристотелем, была канонизирована в эпоху классицизма и стала общеупотребительной вплоть до настоящего времени. Вместе с тем ряд литературоведов, особенно зарубежных, предлагают отказаться от этой классификации как непригодной для постижения всех возможностей, неповторимых в своем качестве художественных произведений.
Тем не менее в практике литературоведения понятие рода существует как эстетическая категория и предполагает включение в его сферу широкого круга произведений, объединенных сходными признаками. Поскольку каждое отдельное произведение отличается от другого, несмотря на ряд общих черт, возникает необходимость в уточнении формулировки его особенностей. Таким образом, появляется потребность более мелкого деления разновидностей художественного произведения – и в обиход вводится понятие вида. Следует подчеркнуть, что абсолютно четкая терминология в литературоведении до сих пор отсутствует. Так, многие исследователи наряду с термином "род" используют и "жанр" (франц. genre – род, вид), хотя чаще всего под "жанром" понимают "вид". Наконец, в термине "жанр" содержится и понятие о "жанровой форме", т. е. об особенностях идейно-эмоциональной трактовки изображаемого в пределах одного вида (пасторальный, приключенческий, исторический роман и т. д.). Некоторые теоретики считают, что в отдельный род может быть вынесена сатира, иногда и роман классифицируется как литературный род, а не жанр.
Учитывая это обстоятельство, рассмотрим основные разновидности литературных родов в наиболее распространенной их трактовке, начиная с эпоса. Древнейшей его разновидностью является эпопея (греч. еророi¿а, epos – слово, повествование и poieo – творю). На ранней стадии развития литературы эпопея представляла собой монументальную форму произведения, в котором освещались проблемы общеплеменного или народного значения. Первоначально эпопея имела стихотворную форму и являлась повествованием о героическом периоде истории, населенном полумифическими героями-богатырями. Герои такой эпохи противостоят врагам-захватчикам и карают злодеев. Вначале эпопея бытовала в устном виде, в передаче поэтов- сказителей, обретя затем письменную форму.
Почти каждый народ создавал свои эпопеи и веками хранил их в коллективной памяти. Древнейшая известная нам эпопея шумеро-аккадское "Сказание о Гильгамеше" (около III тысячелетия до н. э.). В Индии – это "Махабхарата" и "Рамаяна", в Греции – "Илиада" и "Одиссея", во Франции – "Песнь о Роланде", на Руси– циклы богатырских былин, в Армении – "Давид Сасунский", у тюркоязычных народов – "Манас" и "Алпамыш" и т. д. Для героического эпоса характерны невозмутимо спокойная тональность повествования и внимание ко всем подробностям жизни (описание щита Ахилла в "Илиаде"). Белинский замечал, что автор в эпопее "еще смотрит на событие глазами своего народа, не отделяя от этого события своей личности".
Вековой опыт безымянных сказителей учитывался профессиональными писателями. Приемы эпопеи использовали в своем творчестве римский поэт Вергилий ("Энеида", I в. до н. э.), в Португалии – Камоэнс ("Лузиады", XVI в.), во Франции – Вольтер ("Генриада", XVIII в.), в России – Н. Гоголь ("Мертвые души"), Л. Толстой ("Война и мир"), М. Шолохов ("Тихий Дон"), в Германии – Т. Манн ("Иосиф и его братья") и т. д.
Из эпопеи родилась поэма (греч. poiema – творение), получившая воплощение во многих разновидностях. Некоторые ученые полагают, что поэма есть порождение всех трех литературных родов, поскольку можно найти немало поэм, где сюжета как такового почти нет; существуют и поэмы, построенные по драматическому принципу в форме диалога или даже монолога. Подавляющее большинство поэм написаны в стихах, но есть и поэмы в прозе ("Мертвые души" Н. Гоголя).
Поэмой принято считать большое стихотворное произведение, в котором отчетливо выражена сюжетно-повествовательная организация. Заметная роль в поэме принадлежит повествователю – лирическому герою. Существуют различные разновидности поэм. Среди них поэма героическая ("Освобожденный Иерусалим" итальянского поэта Т. Тассо, 1580; "Россияда" М. Хераскова, 1779), в которой обычно действуют исторические персонажи, совершающие великие деяния; дидактическая ("Труды и дни" древнегреческого поэта Гесиода, VIII–VIIвв. до н.э. или "Опыт о человеке" А. Попа, 1757), ставящие своей целью запечатлеть достижения трудовой деятельности или науки.
Бурлескная поэма (франц. burlesque, от итал. burlesco – шутливый) имела комический характер, определяющийся контрастом между темой и способом ее трактовки. Иногда вместо термина "бурлеск" используется другой – "травести" (итал. travestire – переодевать). В бурлеске "высокая" тема излагается подчеркнуто "низким слогом", как, например, в "Энеиде" И. Котляревского (1798), где похождения древнеримского героя описаны с помощью сниженно-бытовой лексики, а персонажи ставятся в грубовато-комические ситуации.
Период расцвета поэмы – эпоха романтизма. Романтический герой, стоящий над пошлой повседневностью, страдает от разлада с окружающими и борется за собственную свободу и независимость. В романтическом герое прежде всего выражается авторское "я". Вот почему в романтической поэме Байрона, Шелли, Мюссе, Пушкина, Лермонтова столь сильно субъективно-лирическое начало, тогда как прозаические подробности бытия почти не затрагиваются.
В реалистической поэзии поэма несколько утрачивает свои позиции. Тем не менее в творчестве Н. Некрасова и Н. Огарева она встречается ("Коробейники", "Мороз, Красный нос", "Кому на Руси жить хорошо", "Русские женщины" Н. Некрасова и "Деревня", "Тюрьма", "Рассказ этапного офицера" Н. Огарева).
Конец XIX – начало XX столетия ознаменован выходом на первый план прозаических жанров, однако это не привело к исчезновению поэмы, обретшей новое звучание. В поэмах Некрасова поэтизировалась повседневность. На новом этапе развития поэму, по словам А. Блока, тоже нельзя представить иначе как "с бытом и фабулой", но при этом усиливается ее лирико-психологическая модуляция. Таковы "Возмездие" и "Двенадцать" А. Блока, "Анна Снегина" С. Есенина, "Поэма конца" М. Цветаевой, "Василий Теркин" А. Твардовского, "Оза" А. Вознесенского и др.
В советской литературе понятие "поэма" сохраняет свой первоначальный – героический – пафос, хотя ряд произведений, определяемых их авторами как поэма, по жанровым признакам ничего общего с поэмой не имеют (пьеса Н. Погодина "Поэма о топоре", автобиографическое повествование А. Макаренко "Педагогическая поэма", киносценарий А. Довженко "Поэма о море").
К эпическим жанрам относится и роман (франц. roman, англ, novel). В средние века романом называли всякое произведение, написанное на романском, а не на господствовавшем в литературных и научных кругах латинском языке. Роман представляет собой развернутое во времени и пространстве произведение, в центре которого эпическое повествование о судьбе одного или нескольких персонажей в связи с другими героями.
Роман имеет свою давнюю и богатую историю, истоки которой уходят в античность. Именно тогда складывается способ романного мышления, отличающийся от того, каким пользовались создатели эпопей. В романе, по определению Белинского, предметом изображения становится комплекс "чувств, страстей и событий частной и внутренней жизни".
Античный роман еще сохраняет некоторые традиции мифологии, в нем преобладает событийная динамика, заслоняющая пока внутренний мир действующих лиц. Таков авантюрно-аллегорический роман римского писателя Апулея "Метаморфозы", известный также под названием "Золотой осел" (II в. н. э.). Но уже у его современника грека Лонга в романе "Дафнис и Хлоя" приключения отступают на второй план, а внимание автора сосредоточивается на изображении чувств влюбленных.
В средневековье, в XII–XIV веках, зарождается рыцарский роман, усвоивший обе тенденции. Наряду с передачей индивидуальной психологии героя (правда, еще в самых общих чертах) важное место в рыцарском романе занимает описание многочисленных, часто фантастических приключений. Весьма популярны на протяжении нескольких столетий были анонимные романы о легендарном короле бриттов Артуре и его рыцарях, а также анонимный роман об идеальной любви "Сказание о Тристане и Изольде", роман Кретьена де Труа "Ланселот, или Рыцарь телеги" (XII в.).
Притягательность рыцарских романов была настолько велика, что в Испании с ними боролись как с общественным бедствием церковные власти. Великий роман Сервантеса "Дон Кихот" отчасти возник из желания высмеять многочисленные ремесленные поделки, эксплуатирующие рыцарскую тему. В Россию рыцарский роман проник уже в новое время (XVII– XVIII вв.) и представлял собой переделки на отечественный лад западноевропейских образцов ("Повесть о Петре Златых ключей", "Бова-королевич" и др.). Уже к концу XVIII века русский рыцарский роман вытесняется в пространство так называемой "лубочной литературы" (дешевые издания, рассчитанные на невзыскательного, малограмотного читателя).
Средневековый роман нередко имел стихотворную форму, иногда с добавлением прозаических частей. Впоследствии европейский роман становится исключительно прозаическим, и отступление от этой нормы – роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин" воспринимается современниками как произведение новаторское.
Вслед за рыцарским романом возникает и роман пасторальный (лат. pastoralis – пастушеский), имеющий еще более древние корни, нежели рыцарский. В Древней Греции еще в III веке до н. э. в творчестве Вергилия, Феокрита, а веком позднее в произведениях Мосха и Биона оформилась так называемая буколическая поэзия (греч. boucolos – пастушеский), воспевающая счастливую жизнь тружеников-поселян, близких к природе (ее основными формами были идиллия и эклога). Отсюда и происходит понятие "идиллия", обозначающее состояние внутренней тишины и покоя, гармонии с окружающим. В XV–XVI веках пасторальный роман становится популярным в литературах Европы, а название одного из них "Аркадия" Я. Саннадзаро (1504) стало символом уголка безмятежной жизни, полной любви и неги. В XVII веке пасторальный роман приобретает отчетливо выраженную аристократическую окраску: природа в нем становится лишь изящной декорацией для галантных словоизлияний завитых и разряженных "пастушков". В современной речи слово "пастораль" имеет несколько иронический оттенок, указывающий на жеманство и слащавость, свойственные этому жанру.
Реальная жизнь всегда была далека от идиллии, и чем сложнее становилось социальное устройство общества, тем менее идиллическим становились отношения сословий. Обострение отношений между сословиями четко отразилось в авантюрно-бытовом, или плутовском, романе. Плутовской роман возник еще в конце XV века в Испании и там же, почти сразу, обрел классическую форму, оставшуюся практически неизменной на протяжении более чем трех столетий. Главное действующее лицо плутовского романа – ловкий пройдоха, авантюрист, всеми возможными средствами пробивающий себе дорогу в верхние слои общества. Повествование в нем обычно ведется от лица героя как его рассказ или воспоминание о пережитом. Герой проходит множество ступеней социальной лестницы и наблюдает жизнь отнюдь не с ее парадной стороны. Моральная неразборчивость персонажа находит объяснение в обличении разнообразных пороков общества, где каждый озабочен только своим успехом.
Первым блестящим образцом плутовского романа было анонимное произведение испанского автора "Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения" (1554). В Испании же созданы и знаменитое "Жизнеописание плута Гусмана де Альфа- раче" Алемана-и-де-Энеро (1604) и "История жизни пройдохи по имени Дон Паблос" Ф. Кеведо-и-Вильегаса (1625).
Испанский плутовской роман оказал воздействие и на литературу в ряде других европейских стран. Лучшие образчики этого жанра – роман немецкого писателя X. Я. К. Гриммельсхаузена "Симплициссимус" (1669), книги француза А. Р. Лесажа "Хромой бес" (1707) и "История Жиль Блаза из Сантильяны" (1715–1735). В России под влиянием французских переводов и переделок плутовской роман появляется во второй половине XVIII века и существует еще и в начале XIX столетия
("Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины" М. Чулкова, 1770; "Российский Жил Блаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова" В. Нарежного, 1814; "Иван Выжигин" Ф. Булгарина, 1829), и даже в XX веке ("Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" И. Ильфа и Е. Петрова; "Признания авантюриста Феликса Круля" Т. Манна).
В эпоху классицизма плутовской роман был вытеснен драмой и лирикой, и только в эру Просвещения романное повествование снова оказалось востребованным. Теперь, сохраняя динамику сюжета, роман начинает тяготеть к психологизму. Возникает новая его модификация – роман семейно-бытовой. На авансцене в таком романе психологический анализ "обыкновенных" (по сравнению с героями плутовского романа или классицистской драмы) характеров.
Показательны в этом смысле "Памела" (1742) и "Кларисса Гарлоу" (1748) английского прозаика С. Ричардсона. Стремясь как можно подробнее запечатлеть духовный мир своих персонажей, писатели сентиментального направления часто прибегают к повествованию от первого лица, используют форму дневника, переписки, дающую возможность выявить все нюансы изменчивого "естественного" чувства. Именно с таких позиций написан ставший для современников эталоном роман в письмах французского писателя и философа Ж. Ж. Руссо "Юлия, или Новая Элоиза" (1761). Вслед за авторами плутовского романа сентименталисты касаются и социальных проблем, но они не столько разоблачают пороки общества, сколько предостерегают от дурных примеров. Сентименталисты создали и особый романный жанр – роман путешествий, герой которого странствует по белу свету и наблюдает быт и нравы в чужих краях, хотя более всего он интересуется собственными переживаниями. Таковы всемирно известный роман англичанина Л. Стерна "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии" (1768) и близкие к этому жанру "Письма русского путешественника" (1795) Н. Карамзина.
Английские романисты XVIII века, на широком социальном фоне рисовавшие героя действующего и меняющего свое отношение к жизни под влиянием внешних обстоятельств (Г. Филдинг "История Тома Джонса, найденыша", 1749 и Т. Смоллет "Приключения Перигрина Пикля", 1751), нащупывают принципы реалистического изображения действительности. Одним из первых шагов в этом направлении становится исторический роман, родоначальником которого по праву называют английского писателя В. Скотта.
В. Скотт разработал принципы построения романа, в котором судьба вымышленных персонажей воссоздается на фоне реального социально-исторического конфликта. В произведениях английского романиста впервые видная роль отводится народу, причем именно в его гуще автор находит воплощение высоких моральных качеств. Сильной стороной романов В. Скотта является и доскональное знание подробностей быта и языка минувших времен, которые он изображает. Но в целом творчество писателя все же характеризуется романтической направленностью (идеализация средневековья, тяготение к мистике, "избранность" центральных персонажей и т. д.).
Книги В. Скотта нашли горячий отклик у современников и породили множество приверженцев. В Италии это роман А. Мандзони "Обрученные", во Франции – "Шуаны" О. Бальзака и "93-й год" В. Гюго, в России – "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" М. Загоскина и "Ледяной дом" И. Лажечникова.
Исторический европейский роман, переживший полосу своего расцвета в 1810–1830-е годы, и до сего дня остается одним из популярнейших жанров. Проследим судьбу хотя бы русского исторического романа. Середина XIX века в России – время ожесточенных идеологических споров и разногласий, писатели прежде всего озабочены решением современных социальных и нравственных проблем, но и тогда и позднее пользуются вниманием читателей произведения далеко не первоклассных исторических романистов: Е. Салиаса ("Пугачевцы", 1874), Вс. Соловьева ("Юный император", 1877; "Царь-Девица", 1878), Д. Мордовцева ("Идеалисты и реалисты", 1876; "Великий раскол", 1884 и др.). Интенсивно развивался исторический роман и в советское время: "Емельян Пугачев" В. Шишкова, "Чингисхан" и "Батый" В. Яна, "Севастопольская страда" С. Сергеева-Ценского, "Дмитрий Донской" С. Бородина, "Русь изначальная" В. Иванова, "Жестокий век" И. Калашникова, цикл романов Д. Балашова, романы В. Пикуля. Немало произведений на исторические темы создано и за рубежом (Г. Сенкевич, Дж. Линдсей, М. Дрюон и др.).
Как ответвление исторического романа, герои которого, странствуя по морям и суше, оказываются в центре значительных событий приблизительно в середине XIX века, возникает роман приключенческий, или, как его еще называют, авантюрный. Родословная приключенческого романа восходит к роману древнегреческому, рыцарскому и плутовскому, в которых похождениям героев, как мы знаем, отводилось немало места.
Строгое определение приключенческого романа едва ли возможно, так как элементы авантюрной фабулы в той или иной мере присутствуют во всех вышеназванных разновидностях романного жанра. Следует ли роман А. Дюма "Три мушкетера" считать историческим или приключенческим романом, или же его можно классифицировать как историко-приключенческое или даже просто романтическое произведение, поскольку Дюма весьма вольно обращался с историческими фактами? Наиболее полно признаки приключенческого жанра – резкие повороты сюжета, контрастность персонажей, отсутствие психологической глубины характеров, обусловливающие динамичность действия, – прослеживаются в произведениях, которые как бы выпадают из массива "большой" литературы. Однако было бы неправомерно по причине отсутствия психологического анализа, постановки сложных социальных или философских проблем считать приключенческий жанр литературой "второго сорта", поскольку у него другие задачи, заключающиеся в том, чтобы прославить мужество и волю, находчивость и смелость героев, рассказать о неизвестных странах и таинственных происшествиях и т. д. Этот круг вопросов всегда интересовал широкого читателя, особенно юношество, не случайно приключенческий роман имел и будет иметь самую широкую читательскую аудиторию. И в наши дни уже устаревшие по многим критериям романы Ф. Мариетта, Т. Майн Рида, Л. Буссенара, Р. Хаггарда, П. Бенуа, Р. Киплинга переиздаются и пользуются повышенным спросом, и не только у молодежи.
В русской литературе приключенческий жанр не получил такого распространения, как в Европе и Америке (Дж. Конрад, Дж. Лондон, Ф. Брет Гарт), но и в ней есть ряд произведений, которые могут быть поставлены в один ряд с зарубежной классикой этого жанра (книги А. Грина, А. Н. Толстого, А. Рыбакова и др.).
Близок к приключенческому и роман детективный (англ. detective – сыщик). Начало детективу положила новелла Э. По "Убийство на улице Морг" (1841), в которой главным действующим лицом становится сыщик-любитель, наделенный блестящими интеллектуальными способностями. Путем дедукции он по отдельным фрагментам восстанавливает весь ход событий и обнаруживает виновника преступления.
Мировую известность приобрел образ Шерлока Холмса, созданный английским писателем А. К. Дойлем. Вскоре детективу становится тесно в рамках рассказа, и он обретает романную форму. Как и приключенческий роман, детектив прежде всего роман действия (романы Э. Габорио, Г. Леру, П. Понсон дю Террайля, Э. Уоллеса, Д. Хэммета и др.), однако в нем ощутимо дает себя знать и тенденция к демонстрации интеллектуальных возможностей героя, разработке психологических мотивировок поступков персонажей наряду с характеристикой социальной среды (А. Кристи, Ж. Сименон, Р. Стаут, Буало и Нарсежак, М. Шеваль и П. Валё и др.). Русский детектив вплоть до середины XX века развивался вяло. Среди представителей этого жанра следует упомянуть произведения Л. Шейнина, Л. Овалова, братьев Вайнеров, С. Высоцкого и др., но, как правило, их художественный уровень не слишком высок. Наиболее активно в советской литературе эксплуатировался жанр политического детектива (В. Кожевников, Ю. Семенов). В последнее время русский детектив преуспевает.
В XIX веке появляется и научно-фантастический роман. Хотя фантастика (греч. phantastice – искусство воображать) и принадлежит к одному из древнейших компонентов творчества, сопряжение вымысла с данными науки начинает осуществляться только в эпоху, когда научно-технический прогресс стал оказывать заметное влияние на развитие общества. Одним из первых выразителей веры в неограниченные возможности науки и техники выступил французский писатель Ж. Верн. В своих многочисленных романах, переведенных почти на все европейские языки ("20 000 лье под водой", 1870; "Таинственный остров", 1875; "500 миллионов Бегуммы", 1879; "Властелин мира", 1904 и др.), Ж. Верн создал ставшие впоследствии у его продолжателей и подражателей стандартными образы чудаковатых ученых, чьи открытия используют во вред человечеству злодеи, и борцов за социальную справедливость, рассчитывающих на употребление плодов науки во благо всем народам. В своих книгах писатель указывал на множество отраслей человеческого общежития, где внедрение техники облегчит жизнь. Как показано исследователями творчества французского фантаста, многие предвидения Ж. Верна со временем оказались успешно внедрены в практику. В психологическом плане произведения Ж. Верна обычно несколько прямолинейны (впрочем, у фантастики, как и у детектива, иная шкала эстетических ценностей, и психологическая глубина не является для нее обязательной). С творческой деятельностью Ж. Верна связано и само возникновение термина "научная фантастика" (англ. sciense fiktion).
Другое направление в фантастике было намечено в творчестве английского писателя Г. Уэллса. В своих романах "Машина времени" (1895), "Война миров" (1898) и "Человек-невидимка" (1897) изобретение как таковое писатель вообще не рассматривает. Его интересовали лишь социальные и психологические последствия научно-технического прогресса. В романе "Первые люди на Луне" (1901) Уэллс создал едва ли не первый образец антиутопии. Утопия (греч. оu – нет и topos – место; иначе говоря, место, которого нет) – один из устойчивых прозаических видов повествования, хотя он может быть оформлен и как роман, и как повесть, и даже как научный трактат. Классическое произведение такого рода, название которого и дало определение всему жанру, "Утопия" (1516) английского государственного деятеля и философа Т. Мора, изобразившего идеальное с его позиций устройство государства. Впоследствии эта задача привлекала многих писателей и мыслителей (Т. Кампанелла, Ф. Бэкон, А. Вельтман, В. Одоевский и многие другие писатели, знаменитый четвертый сон Веры Павловны в "Что делать?" Н. Чернышевского). Слабость утопии в том, что она всегда отражает ограниченные эпохой и личными пристрастиями автора идеи, которые ему представляются универсальными. Так, Т. Мор не видел ничего особенного в том, что счастливые утопийцы пользуются принудительным и рабским трудом. Уэллс же во многих своих книгах предостерегал от слепой веры во всемогущество науки.
Фантастика XX столетия в основном пошла по пути, проложенному Г. Уэллсом (романы-предостережения Г. Хаксли "О дивный новый мир", Дж. Оруэлла "1984", Р. Брэдбери "451° по Фаренгейту" и др.).
Русская фантастика начиналась с "Аэлиты" и "Гиперболоида инженера Гарина" А. Толстого, в которых жанровая форма была лишь оболочкой для обличения капитализма и утверждения идеи революционного обновления мира. Роман-анти- утопия Е. Замятина "Мы" (опубликован за рубежом в 1924 г., а в нашей стране увидел свет лишь в конце 1980-х гг.) являлся своего рода антиподом романов А. Толстого, ибо в нем "завоевания" революции представали в облике тоталитаризма.
Идеологическая атмосфера в СССР, декретируемая властью, способствовала появлению только таких произведений, герои которых, преодолевая всевозможные препятствия, с уверенным оптимизмом смотрят в будущее (романы А. Казанцева, А. Адамова, И. Ефремова и др.). Только в 1960–1980-х годах появились книги, методом аллюзий внедряющие мысль о том, что в царстве "победившего социализма" идиллическое благополучие вряд ли когда-нибудь будет достигнуто (романы А. и Б. Стругацких "Понедельник начинается в субботу", "Трудно быть богом", "Улитка на склоне", "Пикник на обочине", "Жук в муравейнике" и др.).
В современной фантастике распространены произведения на сказочной основе (англ, fantasy), представленные в творчестве Р. Желязны, У. ле Гуинн, К. Саймака, К. Булычева и множества других писателей-фантастов. Особенно показательна для этого направления сказочная трилогия англичанина Дж. Р. Толкиена "Властелин колец" (1954–1955), настолько популярная, что во всем мире возникли общества "толкиенистов", которые обсуждают проблемы, поставленные в трилогии, и в игровой форме воспроизводят сцены из жизни персонажей Толкиена.
И все же главным приобретением XIX века был роман, авторы которого не углублялись в прошлое, не пытались провидеть грядущее, а стремились охватить и осветить многообразие человеческой личности в ее разнообразных связях с другими индивидуумами и обществом настоящего времени.
Уже Стендаль от повествования о частной судьбе переходит к изображению магистрального "веления времени" ("Красное и черное", 1831). Поиском социальных закономерностей бытия пронизано творчество Бальзака, стремившегося выявить общественные, нравственные и иные законы, которые вынуждено соблюдать современное ему общество. После Бальзака писатели полагаются не только на жизненный опыт и воображение – они пытаются обнаружить социальную и философскую подоплеку действий своих героев, доказать, что в нравственно-психологическом смысле любой человек независимо от его общественного статуса достоин внимания и уважения. На помощь писательской интуиции и фантазии теперь приходят социальные науки.
На протяжении XIX столетия было создано немало шедевров, которые запечатлели целую галерею образов, ставших для последующих поколений нарицательными (Растиньяк, Гобсек, Пиквик, Бовари, Тартарен, Домби). Особенно заметны были успехи в области психологического и социального анализа во французской (Стендаль, Бальзак, Флобер) и английской (Диккенс, Теккерей и др.) литературах.
С середины XIX века наступает время "русского романа", который, несмотря на то что возник позднее европейского, развивался очень интенсивно. Русские романисты, начиная с Пушкина, также рассматривают судьбы своих героев как производное от социально-политического устройства. В произведениях Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова поступки и психология действующих лиц обусловливаются воспитанием и, прежде всего, влиянием "среды", которая понималась как совокупность социально-экономических обстоятельств.
Открытием мирового художественного значения стало изображение Л. Толстым психологического портрета в движении и противоречиях. Отказавшись от воспроизведения характера как некоей дроби, где числитель – главное свойство этого характера, его "стержень", а знаменатель – обстоятельства, влияющие на действия индивидуума, причем числитель остается неизменным, как бы ни менялся знаменатель. Толстой создал образы мирового значения (Пьер Безухов, Платон Каратаев, Анна Каренина, Федор Протасов и др.). В отличие от своих предшественников Толстой показал, что психология человека изменчива, как изменчива сама жизнь (умный может оказаться в глупом положении, добрый порой способен на жестокость и т. д.). По меткому определению Н. Чернышевского, Толстой открыл "диалектику души".
Трудно переоценить и вклад, внесенный в становление романа нового типа Ф. Достоевским, уроки которого и поныне усваивают художники всего мира. Исследуя характер "частного" человека, живущего в узком замкнутом мирке, Достоевский видит в своих героях некие универсальные фигуры, сопряженные со "всечеловеческим" бытием. Противоречивость любой души, ее метания между "небом" и "землей", страстное желание обрести Истину, за познание которой любая личность платит страданием, – вот центральные мотивы творчества Достоевского.
И Толстой, и Достоевский прежде всего озабочены поиском нравственных решений "вечных вопросов", но, как и вся русская литература второй половины XIX века, их произведения проникнуты жгучей злободневностью. Герои их книг принимают близко к сердцу политические и социальные проблемы и своего отечества, и всего мира.
Без осмысления и продолжения традиций Толстого и Достоевского было бы невозможно творчество Д. Голсуорси, Р. Мартена дю Гара, Т. Манна, Р. Роллана, К. Чапека, У. Фолкнера, Г. Бёлля, Дж. Стейнбека, Кобо Абэ и множества других писателей, в чьих произведениях воссоздана широкая панорама сложной и зачастую трагичной социальной жизни, существующей и благодаря, и вопреки усилиям ее отдельных участников. Почти все герои проигрывают битву с жизнью и мучительно ищут истоки своих неудач и смысл существования человека вообще. Таков на рубеже XIX–XX веков итог наблюдений над действительностью многих художников. Вплоть до середины XX столетия в их книгах разрабатывается тема абсурдности бытия, конкретность изображения сменяется символами вещей и явлений, а смысл происходящего трактуется в мифологическом плане (Дж. Джойс, Ф. Кафка, Г. Маркес и др.).
После Второй мировой войны разочарование в извечных гуманистических ценностях порождает роман экзистенциалистский (Ж. П. Сартр, А. Камю и др.), проповедующий космическое одиночество человека и заведомую обреченность любых попыток что-либо в мире изменить, одновременно утверждая свободу личности. В 1950–1970-х годах, прежде всего во Франции, возникает течение, известное под названием "новый роман" или "антироман" (Н. Саррот, К. Симон, А. Роб-Грийе и др.). Для "нового романа" характерно обращение к стихии бессознательного как определяющего бессмыслицу существования всего живого, примат безгеройного и бесфабульного повествования, утверждение приоритета литературного приема над содержанием.
Для романа 1980–1990-х годов показательно мифологическое насыщение повествования, к какому бы времени оно ни относилось (У. Эко "Имя розы", Г. Маркес "Сто дней одиночества" и др.). Техника письма здесь также превалирует над содержанием.
Поскольку СССР на протяжении семи десятилетий находился за идеологическим "железным занавесом", развитие романа в нем, как и всего искусства в целом, шло путем, отличным от западного. До конца 20-х годов писатели еще воспринимали идеи западных собратьев и обменивались художественными открытиями. После Первого съезда советских писателей (1934), на котором в качестве главного метода искусства был провозглашен социалистический реализм, русская литература в административном порядке была объявлена единственной хранительницей и защитницей гуманизма (а к ней были подверстаны и литературы республик, входящих в СССР). Все прочие течения мировой словесности зачислялись в разряд реакционных и тупиковых.
Советская многонациональная литература, опекаемая партией, была обязана руководствоваться принципами изображения жизни в ее революционном развитии и воспитывать читателя в духе коммунизма на примере многочисленных модификаций образа "настоящего человека". Все, что не укладывалось в рамки соцреализма, не могло увидеть света (романы А. Платонова, М. Булгакова, В. Гроссмана) или издавалось за рубежом (Б. Пастернак, А. Синявский и др.).
Только после политической оттепели (конец 1950-х – начало 1960-х гг.) появляются романы, в которых многоцветье и драматизм "прекрасного и яростного мира" (А. Платонов) изображаются с учетом общечеловеческих нравственных ценностей (Ю. Трифонов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов, Ч. Айтматов, Ф. Искандер и др.). Эти произведения не могли вместиться в прокрустово ложе соцреализма – недаром советское литературоведение сделало робкую попытку определить современное состояние отечественной литературы как "реализм без берегов", но эта "диверсия" вскоре была пресечена бдительными стражами идеологических устоев. А романы A. Солженицына, о публикации которых не раз извещали читателей ведущие журналы страны, так и не были напечатаны вплоть до конца восьмидесятых.
И лишь крушение тоталитарной системы в СССР дало писателям возможность наряду с классической формой романа экспериментировать в области формы и содержания (творчество B. Пьецуха, Л. Петрушевской, Вен. Ерофеева, В. Пелевина, Т. Толстой, Ф. Горенштейна и др.). В последние два десятилетия XX века оказались востребованными и созданные ранее произведения А. Битова, Г. Владимова, В. Маканина и др.
В литературоведческой иерархии вслед за романом идет повесть. Повесть – это эпическое произведение, своего рода промежуточный этап между романом (большая форма) и рассказом или новеллой (малая форма).
Рубеж между романом и повестью не всегда может быть точно обозначен. Например, роман Тургенева "Рудин" по формальным признакам может быть назван повестью, а повесть Пушкина "Капитанская дочка" в немалой степени удовлетворяет требованиям, предъявляемым к роману.
В древнерусской литературе "повестью" называлось всякое повествование, рассказ, претендующие на объективное изложение событий, тогда как произведение субъективно-лирического характера именовалось "словом". Таким образом, уже заглавия в литературе XII– XVII веков информировали читателя о направленности произведения ("Слово о полку Игореве", "Слово о погибели Русской земли", "Повесть о Петре и Февронии", "Повесть о Горе-Злочастии").
В современной русской и зарубежной прозе границы между романом и повестью весьма подвижны, и различие меж ними не всегда можно точно определить.
В классической повести на первом плане статические компоненты сюжета – психологическое состояние героя, пейзаж, интерьер и т. п. Сюжет в повести не столь динамичен, как в романе, важное место в повести отводится рассказчику, нередко выступающему от первого лица ("Очарованный странник" Н. Лескова, "Детство" М. Горького).
Повесть повторяет почти все романные модификации, за исключением ранних (плутовской и рыцарский романы). Кроме того, существует еще особая разновидность повести – философская повесть, почти не имеющая аналогов в романной форме. В философской повести все подчинено раскрытию какого-либо политического или философского тезиса. Это был распространенный жанр эпохи Просвещения, особенно любимый Вольтером, который трудился над решением проблемы "мирового зла" ("Задиг, или Судьба", "Кандид, или Оптимизм", "Микромегас").
Рассказ – один из доминирующих жанров в современной прозе. Почти до конца XIX века под рассказом понимали не столько определенную жанровую форму, сколько манеру повествования в романе или повести, и только А. Чехов закрепил в сознании читателя отличие рассказа как малой формы от повести и романа.
В настоящее время рассказом называют небольшое повествовательное произведение, в котором действует ограниченное число персонажей и описывается какое-нибудь одно событие. Рассказ требует от автора лаконизма повествования, которое обычно достигается путем строгого отбора деталей описания или характерных особенностей психологии и действий. Например, в рассказе А. Чехова "Дочь Альбиона" психологический портрет англичанки-гувернантки создается с помощью подчеркивания ее постоянного выражения. "С презрением на все смотрит..." "Медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением". "По желтому лицу ее пробежала надменная презрительная улыбка". Правда, подчеркивание детали в портрете или интерьере не является прерогативой только малых форм. Вспомним описание усадьбы и жилища Собакевича или Манилова в "Мертвых душах".
Разновидность рассказа представляет собой новелла (итал. novella – новость). Новелла имеет все признаки рассказа, но отличается от него большей напряженностью сюжета и уменьшением описательного пространства, причем для новеллы показательна неожиданная, парадоксальная развязка. Возникнув в эпоху Возрождения в Италии ("Декамерон" Боккаччо), новелла распространилась по всей Европе, хотя второе свое рождение новелла вместе с рассказом отмечает уже в XIX веке.
Расцвет новеллы приходится на период романтизма (Э. Т. А. Гофман, Э. По). В жанре новеллы успешно выступал Мопассан. В литературе XX столетия признанным мастером новеллы стал американский писатель О. Генри. В современной зарубежной литературе новелла тяготеет к гротескности образов и утонченной усложненности формы (X. Борхес, X. Кортасар, Дж. Чивер). В русской литературе последних десятилетий XX века новелла представлена в творчестве Ф. Искандера, А. Кима, А. Битова.
Очерк отличается от рассказа и новеллы отсутствием единого, подлежащего разрешению конфликта и значительной долей описательности. Для очерка показательны также документальность изображения и публицистическая заостренность. На примере какого-либо реально происходившего события, часто называя конкретные лица, автор четко заявляет свое отношение к описанному.
Очерки можно разделить на собственно художественные, документальные и публицистические. В художественном очерке речь идет о типах и характерных явлениях, описанных с натуры; буквальное соответствие с реальностью здесь не так уж важно ("Петербургские шарманщики" Д. Григоровича, "Очерки бурсы" Н. Помяловского). Публицистический очерк выносит на суд читателя какие-либо злободневные проблемы современности, фиксируя подлинные имена участников событий, время и место происходящего, автор не скрывает своего отношения к событиям (книги очерков В. Овечкина "Районные будни", "Бодался теленок с дубом" А. Солженицына). Задача документального очерка – информировать читателя о тех или иных сторонах текущего времени, хотя это вовсе не исключает проблемности. Документальный очерк – средство оперативного реагирования на происходящее, он предназначается для публикации в газете или в журнале, что наряду со злободневностью обусловливает и кратковременность его звучания.
Близок к очерку фельетон (от франц. feuille – листок). Существование фельетона неотделимо от журнала или газеты. Возникший в начале XIX века во Франции фельетон характеризуется непременной актуальностью темы, получающей в небольшом по объему произведении юмористическое или сатирическое звучание. В дореволюционной России признанными "королями фельетона" были А. Амфитеатров и В. Дорошевич.
В советское время в этом жанре выступали М. Булгаков, М. Зощенко, С. Нариньяни, Л. Лиходеев, Н. Ильина и др.
Памфлет (англ, pamphlet – листок, который держат в руке) отличается от фельетона политической заостренностью, точной адресовкой (изображаемое лицо может быть и не названо по имени, но легко узнается), очевидной гиперболизацией характеров и бескомпромиссностью авторской позиции. Памфлет в Европе имеет давнюю историю (памфлеты Эразма Роттердамского, Свифта, Вольтера, Гюго), в России же он получил распространение лишь с середины XIX века (Белинский, Герцен, Горький).
В границах эпического рода существует и жанр мемуаров. Мемуары (лат. memoria – память, воспоминания) могут быть написаны в форме исповеди или дневника, рассказа о пережитом (обычно от первого лица, хотя встречаются воспоминания и в третьем лице). Ценность мемуаров заключается не столько в их художественности, сколько в достоверности и в значимости событий, о которых идет речь ("Записки" Екатерины II, мемуары У. Черчилля). Следует отметить, что ни одному мемуаристу не удается достигнуть полной объективности: вольно или невольно он стремится оправдать свои промахи и ошибки, подчеркнуть свою значимость и т. д., не случайно многие авторы мемуаров завещают опубликовать их воспоминания лишь после смерти ("Исповедь" Ж. Ж. Руссо).
Ряд эпических жанров напрямую связан с фольклором. Прежде всего это сказка , одна из древнейших разновидностей эпоса. Сказка представляет собой устный рассказ с преобладанием фантастического элемента. В сказке нашли свое отражение древнейшие народные понятия об устройствах мира, о добре и зле и т. д. Поскольку сказка была рассчитана на устную передачу, в результате многовекового функционирования один и тот же сказочный сюжет может существовать в нескольких вариантах.
Начиная с XVIII века, сказки записываются учеными и писателями ("Тысяча и одна ночь", русские сказки, собранные А. Афанасьевым; немецкие сказки, записанные Я. и В. Гриммами). К сказочным сюжетам обращаются писатели всех стран мира (Э. Т. А. Гофман, X. К. Андерсен, Ш. Перро, М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, Е. Шварц, Ф. Кривин). Литературная сказка, возникшая в XIX веке и существующая и поныне, отличается от народной тем, что в первой наличествует психологическая разработка характеров, а сюжет перекликается с современностью; усилено в литературной сказке и юмористическое начало.
Близка к сказке и басня – краткий стихотворный аллегорический рассказ с назидательным окончанием. Возможна и прозаическая басня. Басня возникла еще в V–VI веках до н. э., и ее родоначальником считается древнегреческий мудрец Эзоп. По его имени иносказательную речь, столь характерную для басенного жанра, именуют "эзоповым языком". Источником общеизвестных во всем мире басенных сюжетов стал и созданный на фольклорной основе памятник древнеиндийской литературы III–IV веков "Панчатантра" ("Пятикнижие").
Благодаря своей краткости, образности и точности выводов басня пользовалась успехом во всех слоях общества. Общечеловеческая типичность ситуаций и их оценка в басне делают ее неувядаемым жанром, который, несмотря на свою кажущуюся "простоватость", продолжает существовать и в наши дни. В России, например, это басни Д. Бедного, С. Михалкова, прозаические басни Ф. Кривина, продолжающие традиции И. Дмитриева и И. Крылова.
Сродни басне притча – назидательно-аллегорический жанр, характеризуемый символической наполненностью. Притча обычно существует не сама по себе, а в каком-либо литературном контексте и служит художественным доказательством определенного тезиса, который может и не быть сформулирован прямо. В притче фигурируют лишь поступки и их нравственные результаты, психология персонажей в ней не освещается (притча о блудном сыне; о рабе, не приумножившем доверенные ему сокровища, в Евангелии). Притча получила распространение в эпоху возникновения христианской литературы, хотя она встречается уже и в текстах Ветхого Завета. В литературу притча проникает с конца XIX столетия (А. Камю, Ф. Кафка, У. Фолкнер и др., создающие по законам притчи крупные жанровые формы – роман и повесть).
Многовековое бытование имеет и анекдот (греч. anekdotos – неизданный). Впервые понятие анекдота возникает еще в V веке в Византии и связывается с кратким назидательным эпизодом из биографии конкретного исторического лица. Затем анекдотом стали называть устные миниатюрные повествования (порой анекдот может состоять всего из 4–5 фраз) шуточного характера, нередко политически заостренные. В XX веке анекдот всегда анонимен. Он основан на остроумной и неожиданной развязке и чаще всего затрагивает политические или социальные проблемы. Анекдоты чаще всего оппозиционны существующему строю. Начиная с XV века анекдоты начинают выходить и в виде печатных сборников, однако в СССР они всегда функционировали только устно, поскольку политические анекдоты рассматривались властями как "враждебная пропаганда". В последние годы в России анекдоты получили и печатное распространение (см., например, "Историю государства советского в преданиях и анекдотах", собранных Ю. Боревым. М., 1995).
В средневековье возникает близкое к анекдоту фабльо (франц. fabliau, от лат. fabula – рассказ, басня). Фабльо – это краткий рассказ, основанный на внешнем комизме и отличающийся грубоватостью юмора. Фабльо осмеивает общечеловеческие пороки: жадность, лицемерие, глупость, разврат и т. п. Как и анекдот, фабльо оказало влияние на развитие новеллы.
Родство с анекдотом обнаруживает и фацеция (лат. facetia – шутка, острота) – короткий шуточный рассказ с динамичным сюжетом. В эпоху Возрождения в Италии фацеция стала фигурировать среди литературных жанров. В России она получила распространение с конца XVII века, будучи заимствованной из Польши, откуда и ее русское тогдашнее наименование – "жарт" (шутка). Фацеция в русской литературе XVIII – начале XIX века встречалась довольно часто – некоторые фацеции, например, были включены в знаменитый многократно переиздававшийся "Письмовник" Н. Курганова (вторая половина XVIII в.).
Лирика – литературный род, в котором, в отличие от эпоса, главенствует не предмет изображения, а отношение к нему автора. Лирика оперирует экспрессивными формами речи и непосредственно связана со стихом. Сюжет в лирических произведениях выражен слабо и может вообще отсутствовать. На первом плане в лирике образ-переживание, преследующий цель раскрытия субъективно воспринимаемой автором действительности или каких-то ее отдельных сторон. "Наиболее чистой формой лирики считается медитация – сосредоточенное размышление, самосозерцание, непосредственный поток сознания, идущий из сокровенных глубин авторского "я" .
Лирика и эпос, как уже отмечалось, взаимопроникаемы. В эпическом произведении с развернутым сюжетом нередко встречаются так называемые "лирические отступления", да и все произведение в целом может быть окрашено лиризмом (повести и рассказы М. Пришвина, "Владимирские проселки" В. Солоухина). Можно указать и на некоторые лирические жанры, характеризующиеся отчетливо выраженным сюжетом (поэма, баллада, некоторые разновидности песни).
Различаются эпос и лирика во времени изображаемого действия. В эпосе преобладает время прошедшее, тогда как лирическое произведение обычно передает событие или чувства героя как протекающие в настоящий момент. Для лирики не характерны развернутые описания, подробные мотивировки. Лирика стремится передать неповторимость индивидуального переживания, усиленного до всечеловеческого масштаба, что и позволяет читателю воспринимать лирическое произведение как отражение собственного чувства.
Формы лирики не имеют такой четкой организации, как в эпосе. Лирические жанры в основном разграничиваются по конкретному содержанию выраженного в них душевного движения (лирика любовная, пейзажная, философская и т. д.). Такое четкое деление показательно для эстетики прошлого – античность, средневековье. Но уже в XVIII и тем более в XIX– XX веках подобные определения малопродуктивны, поскольку в чистом виде лирические жанры почти не встречаются. Зададимся, например, вопросом: можно ли отнести стихотворение Б. Пастернака "Во всем мне хочется дойти до самой сути..." (1956) к какому-либо из традиционных жанров? Тем не менее, при изучении истории литературы возникает необходимость быть знакомым с основными лирическими жанрами. Коротко охарактеризуем их.
Ода (греч. ode – песня). В античности этим термином обозначали сначала всякую песнь вообще, а затем так стали называть лирическую хоровую песню в честь какого-либо лица или события. В Древней Греции и в Риме ода была одним из наиболее употребительных жанров, затем, вплоть до XVI века, находилась в забвении и была возвращена в обиход усилиями французского поэта Ронсара.
Эпоха классицизма обусловила новую жизнь одического жанра, ставшего одним из основных в поэзии. Классицистская ода восхваляла государственных деятелей и монарха. Ода в этот период щедро пользуется мифологией античности и вырабатывает величавый строй речи и средства строгой ритмики. Таковы оды Вольтера, Ж. Ж. Руссо, М. Ломоносова.
В эпоху предромантизма жанровые признаки оды начинают размываться (оды Г. Державина), а в XIX веке ода почти утрачивает свои канонические приметы (оды В. Гюго, Дж. Китса и др.). XX век с его тяготением к интимной лирике отказывается от оды как от жанра риторического, и если ода все же еще и используется каким-либо поэтом, то лишь в переносном или ироническом смысле ("Настали времена, чтоб оде/Потолковать о рыбоводе" Э. Багрицкого, "Ода революции" В. Маяковского). И тем не менее торжественная тональность оды не исчезла полностью и в XX веке. "Одическими интонациями была наполнена официальная советская поэзия эпохи тоталитаризма" .
Элегия (от греч. elegos – жалобная песня) – лирическое произведение, проникнутое настроением грусти, причем повествование в элегии ведется преимущественно от первого лица. В Древней Греции предметом элегии были и воинская доблесть или патриотизм (Тиртей – VII в. до н. э.). Впоследствии сферой элегии стало лишь изображение радостей и горестей любви, а в римской поэзии круг изображения в элегии становится еще у́же – только страдания от несчастной любви (Каллимах, Тибулл, Овидий).
Элегия встречается и в средние века, и в эпоху Возрождения, не получая, однако, особого распространения. Новый расцвет элегического жанра приходит вместе с романтизмом (А. Шенье, Э. Парни и др.).
В России элегия возникает в поэзии В. Тредиаковского и А. Сумарокова и становится одним из любимых жанров в творчестве В. Жуковского, К. Батюшкова, А. Пушкина и Е. Баратынского. Медитативное начало (лат. meditatio – углубленное размышление), присущее элегии, сохраняется и в поэзии XX века (А. Блок, Р. М. Рильке, Н. Заболоцкий и др.).
Гимн (греч. hymnos – хвала) – торжественная песнь в честь богов или героев. Разновидности гимна – дифирамб (от греч. dithyrambos – хоровая песня) – песнопение, слагаемое в честь Диониса и сопровождаемое бурным оргиастическим танцем, и пеан (от греч. paion – целитель, спаситель) – культовая песня в честь Аполлона. Со временем гимн стал обязательной принадлежностью развитых религиозных культов. Известны гимны, исполнявшиеся в Древнем Египте, Месопотамии и Индии.
Христианство породило новые разновидности гимнов: акафист (гимн в честь Богоматери), кондак (подобие поэмы на религиозный сюжет) и канон (9 песен на сюжеты Ветхого Завета).
Светская модификация гимна возникает в скептическом XVIII столетии. Это прежде всего "Марсельеза" (слова и музыка К. Руже де Лиля), ставшая гимном Великой французской революции. В XIX–XX веках гимном, выражающим в поэтической форме идеологию государства, обзаводится каждая страна. В России на протяжении двух последних столетий гимн менялся несколько раз.
Сатира (лат. satura – смесь) – в античности стихотворный жанр, в котором объект изображения предстает как нечто внутренне несостоятельное, подлежащее осмеянию. В литературе Древнего Рима сатира становится обличительным жанром (Гораций, Ювенал), а с течением времени сатира утрачивает жанровую определенность и превращается в некое подобие литературного рода. В сатире, по определению Ф. Шиллера, "действительность как некое несовершенство противопоставляется идеалу как высшей реальности", причем сатирический "идеал" выражается через "антиидеал", т. е. путем изображения такой действительности, которая нарушает нравственные или другие общественные нормы. Сатире в широком смысле слова свойственно обращение к аллегории, к фантастике, к философскому осмыслению реальности.
Итак, расширив границы своего бытования, сатира из лирики перешла в эпос и стала способом изображения ("Дон Кихот" Сервантеса, "Приключения Гекльберри Финна" М. Твена, "Похождения бравого солдата Швейка" Я. Гашека, "Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чон- кина" В. Войновича).
Одной из разновидностей сатирической поэзии, зародившейся в Древней Греции, является эпиграмма (греч. epigramma – надпись) – небольшое стихотворение, в котором высмеивается конкретное лицо или какое-либо общественное явление. Эпиграмма обычно служит средством литературной или социальной борьбы и может быть пристрастной, но широкую известность она получает тогда, когда выражает общее мнение. Такова, например, эпиграмма В. Гиляровского:
У нас в России две напасти:
Внизу – власть тьмы,
Вверху тьма власти.
В эпоху античности возникла и эпитафия (греч. epitaphios, от epi – над, на и taphos – могила) – надгробная надпись, чаще всего выполненная в стихотворной форме. В таком виде эпитафия сохранилась и до наших дней, хотя в последние годы развернутая прозаическая и стихотворная эпитафия уже редко встречается. В XIX веке на многих надгробиях можно было встретить эпитафию, заимствованную из стихотворения В. Жуковского "Сельское кладбище" (1802):
Прохожий, помолись над этою могилой;
Он в ней нашел приют от всех земных тревог;
Здесь все оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его спаситель – Бог.
В отдельных случаях эпитафия могла быть обращенной к вымышленному адресату и носить сатирический характер (например, эпитафии Р. Бернса).
Мадригал (от итал. madrigale – песня на родном языке) противоположен по направленности эпиграмме и представляет собой небольшое стихотворение любовно-комплиментарного характера, в основном адресованное конкретному лицу. Мадригал возник в Италии в XVI веке и был популярен в европейской салонной поэзии XVII–XVIII веков. В России авторами мадригалов были А. Сумароков и Н. Карамзин. Встречается мадригал у Пушкина и Лермонтова, у которых он иногда приобретает ироническое звучание. Таков, например, пушкинский мадригал "В альбом Сосницкой".
Вы съединить могли с холодностью сердечной
Чудесный жар пленительных очей.
Кто любит вас, тот очень глуп, конечно;
Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей.
Послание – стихотворное произведение, имеющее форму письма и обращенное к одному или нескольким конкретным лицам. Широко распространен жанр послания был уже в античности (Гораций, Овидий), употреблялся он и поэтами нового времени, как европейскими, так и русскими ("Мои Пенаты. Послание к Жуковскому и Вяземскому" и "К Гнедичу" К. Батюшкова, "Послание в Сибирь" Пушкина). Некоторые исследователи находят возможным отнести к жанру прозаического послания и тот вид литературного обращения, который во второй половине XX века получил наименование "открытого письма" ("Письмо к Гоголю" В. Белинского, "Письмо вождям Советского Союза" А. Солженицына).
Один из древнейших лирических жанров, не связанный с какой-то конкретной ситуацией или адресатом, – песня. Песня представляет собой поэтическое произведение, обусловленное определенной мелодией. Вначале песня существовала в пределах фольклора, причем текст песни и ее музыкальное сопровождение создавались одновременно, а сама песня тяготела к обрядовому ритуалу.
Как литературный жанр песня зародилась в Древней Греции (VII–V вв. до н. э.), и тогда же наметилось ее деление по тематическим признакам: песни свадебные, песни-гимны, песни-элегии, любовные, застольные и т. д.
В средние века песня в основном носила любовный характер (провансальская канцона), хотя могла затрагивать и социально-политические проблемы (сирвента).
Особое место в песенном жанре занимала баллада. Первоначально балладой называлась песня любовного содержания, связанная с ритмической пляской во время исполнения (прованс. ballair - плясать). Со временем баллада утратила плясовой рефрен, а затем и песенное исполнение и превратилась в литературный жанр.
Приблизительно во второй половине XVIII века баллада обретает те признаки, которые и сейчас являются определяющими для балладного жанра. Баллада становится лироэпическим произведением с напряженным драматическим сюжетом, обычно на историческую тему, решение которого допускает и присутствие фантастического элемента. У романтиков баллада становится одним из наиболее популярных жанров. Хорошо известны баллады Шиллера ("Кубок", "Перчатка"), Гёте ("Лесной царь"), впоследствии получившие музыкальное оформление. В русской литературе признанным мастером баллады был Жуковский ("Людмила", "Теон и Эсхин" и др.). Писали баллады и Пушкин ("Песнь о вещем Олеге"), и Лермонтов ("Воздушный корабль"), и А. К. Толстой ("Василий Шибанов"). В современной поэзии жанр баллады встречается не часто, хотя можно и упомянуть баллады Н. Тихонова, Э. Багрицкого, П. Антокольского, Е. Евтушенко и др.
Особую разновидность песни представляет собой песня литературная. Она может возникнуть вначале как стихотворение, не предназначавшееся для пения, а затем, порой и без ведома автора, приобрести музыкальное сопровождение и стать собственно песней. В таком виде литературная песня начала свое существование во второй половине XVIII века и сразу же заявила о себе блистательными образцами (песни Р. Бернса, П. Ж. Беранже). В России первые литературные песни получили распространение сначала в образованных кругах, а затем стали и народным достоянием. Имело место и обратное влияние. Связь литературной песни с фольклором наглядно прослеживается в творчестве А. Кольцова, Н. Некрасова, И. Никитина. Некоторые их произведения превратились в народные песни, текст которых знают все, а автор мало кому известен. Так, например, почти полтора века живет в качестве народной песня "Славное море – Священный Байкал...", в основе которой стихотворение сибирского краеведа Д. П. Давыдова, сочинившего свое произведение в 1858 году.
Песенную музыку уже в XIX веке сочиняют ведущие композиторы (И. Гурилев, А. Верстовский, А. Алябьев). Особенно много сотрудничают композиторы с поэтами-песенниками во второй половине XX века (И. Дунаевский, М. Блантер, Д. Покрасс, А. Пахмутова, А. Петров и др.).
Одним из проявлений песенного жанра является романс (франц. romance – романский), выступающий одновременно как стихотворное и музыкальное произведение, предназначенное для сольного пения с инструментальным сопровождением. Музыку романсов на стихи известных поэтов сочиняли композиторы всех стран (Бетховен, Шуберт, Дебюсси, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Свиридов и др.). В романсе содержание и музыкальные средства обычно сложнее, чем в песнях, хотя точное различие меж романсом и песней не всегда легко провести.
В последней трети XIX века в России оформилась специфическая разновидность песенного жанра – частушка – импровизированная короткая, обычно четырехстрочная, песенка, рассчитанная на бесхитростное музыкальное сопровождение (гармонь, балалайка). Частушка может исполняться и без музыки. Возникла она в деревне, потом перебралась и в город, но так и не стала полноправной частью городского фольклора. В частушке в основном доминирует любовная тематика, но наравне с ней имеет распространение сатирическая или юмористическая. Встречается частушка и на эстраде – сатирическая или пародийная, но вообще частушка на глазах исчезает.
Третьим литературным родом является драма. Драма принадлежит одновременно литературе и театру. Успех театральной постановки зависит не только от достоинств текста (хотя это обстоятельство самое важное), но и во многом определяется игрой актерского ансамбля, режиссерской трактовкой, художественным и музыкальным оформлением и т. п.
Драма, по сравнению с лирикой и эпосом, обладает четко выраженными особенностями.
В драме на первом плане стоит действие, в силу чего характеры в драме очерчены резкими штрихами. В характерах, которые выведены в драме, преобладает конфликтное начало, проистекающее из социально-исторических или общечеловеческих нравственных противоречий.
Большинство драматических произведений построено на внешнем единстве действия, в котором все события и персонажи подчинены тому же принципу. На таком принципе зиждился еще античный театр (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан) и драма XVI–XIX веков. В подавляющем большинстве драматических произведений единство действия остается нерушимым, поскольку по сценическим условиям в драме количество действующих лиц меньше, нежели в романе, и действовать им приходится в ограниченной временной и пространственной сферах, так что автор вынужден считаться с этими обстоятельствами и декларировать свои идеи в заостренной форме.
В драме имеется лишь одно средство характеристики персонажей – прямая речь, выражающаяся в монологах и диалогах. Личность автора, его мысли и чувства в драме передаются только через поступки героев и тот пафос, которым одушевлено произведение. Единственная возможность как-то объяснить психологию и внешность действующих лиц, которой располагает автор, – ремарки. Однако ремарки, за редкими исключениями (пьесы Б. Шоу), представляют собой краткие указания для режиссера, актеров и художника, оформляющего спектакль. Для зрителя, если он не читал пьесы, ремарка пропадает.
С античных времен и почти до конца XIX века драма оставалась наиболее широко распространенным видом словесного искусства. Театр посещали сотни и тысячи зрителей, тогда как число читателей было намного меньше. Тому несколько причин. Драма позволяет воспринимать мысли и образы в живых картинах, а игра актеров – акцентировать авторскую идею, донося ее даже до неискушенного зрителя, что создает единое "поле притяжения" в зрительном зале. И наконец, театр – не только кафедра, с которой проповедуют, но и праздничное место общения, отвлекающее от будничных забот. Не случайно пьесы проигрывают в чтении, и мало находится любителей читать пьесу, а не смотреть ее в театре.
Развитие и совершенствование кино поколебало и в значительной степени подорвало мощную притягательность театрального зрелища. Этот процесс усилился с появлением телевидения. И все-таки ни кино, ни TV не убили и не убьют театра, ибо игра актеров "вживе" и сама атмосфера зрительного зала обладают эффектом воздействия, превосходящим возможности кино и телевидения, несмотря на все технические чудеса, которые недоступны театру. Это понимали в 1920–1930-е годы, когда создавались большие роскошные кинотеатры, убранство и атмосфера которых были призваны имитировать театральные.
От драмы в широком смысле слова (драма как род) следует отличать драму – литературный вид.
Древнейшим видом драмы является трагедия (греч. tragos – козел и ode – песня), возникающая как разыгрывание сцен, связанных с культом почитания бога виноделия Диониса. Во время ритуального представления в жертву Дионису приносили козла – отсюда и название.
Трагедия как драматический вид оформилась в Древней Греции около V века до н. э. В основу содержания древнегреческой трагедии положены конфликты, которые затрагивали общенародные интересы и были возведены до общечеловеческого уровня. Этим и объясняется непреходящее звучание античных трагедий – Эсхила или Софокла. По Аристотелю, трагедия вызывает чувство страха и сострадания, способствующее очищению души (катарсис).
Новый этап развития возможностей трагедии – эпоха Возрождения. Трагедии Шекспира пронизаны пафосом драматизма человеческой жизни в водовороте страстей и желаний и одновременно звучат как гимн во славу энергии и животворящей силы человеческого разума. Шекспир привнес в суровую возвышенность античной трагедии бытовое и комическое начала, отказался от одноплановости характеров и включил в высокую лексику просторечные элементы.
Непосредственных продолжателей у Шекспира долгое время не было. Идущие вслед за "английским бардом" драматурги эпохи классицизма равнялись прежде всего на "высокую" античность, достижения которой были объявлены образцовыми. Рационалистическая драматургия классицизма тяготела к "математической" композиционной завершенности, демонстрируя примат долга перед чувством (Расин, Корнель, Вольтер и др.).
Не угас жанр трагедии и в период романтизма, когда эстетика рационализма была вытеснена поэзией бурных индивидуальных страстей (Шиллер, Гёте, Гюго).
В русской литературе трагедия возникла вместе с зарождавшимся классицизмом (пьесы Сумарокова, Княжнина, Хераскова, Озерова) и как отражение эстетики классицизма просуществовала вплоть до начала XIX века.
Новый этап развития русской трагедии начался с появлением "Бориса Годунова" Пушкина. Он построил свое произведение на совершенно новых принципах, которые большинству современников показались неприемлемыми. Используя достижения Шекспира, поэт смело соединил трагическое и комическое, "высокое" и "низкое", сделав объектом изображения не судьбу индивидуума, а "судьбу народную".
С середины XIX века трагедия не частый гость на русской сцене (историческая трилогия А. К. Толстого, "Гроза" А. Островского, которую сам автор назвал драмой).
В советское время жанр трагедии практически не востребовался в связи с общеидеологической установкой на жизнерадостное искусство. Показательно в этом смысле название пьесы В. Вишневского "Оптимистическая трагедия" (1933), в которой поведана история превращения анархистского отряда в дисциплинированный полк Красной Армии и его самоотверженной гибели за победу общепролетарского дела. Европейская трагедия была лишена такого мажорного настроя, хотя она и не лишилась гуманистического пафоса (Р. Роллан, Ж. П. Сартр, Ж. Ануй и др.).
Трагедии в античной традиции противопоставлялась комедия (греч. komodia, от komos – веселая процессия и ode – песня). Комедия в античности понималась как сценическое произведение со счастливым концом, причем характеры и события в нем представлялись в смешном виде. В отличие от трагедии, где действовали боги и герои, комедийные персонажи принадлежали к низшим сословиям.
Современная комедия призвана подвергнуть осмеянию то, что в социальной или нравственной сферах противоречит общественным нормам. Положительный герой для комедии не обязателен. Идеал, во имя которого осмеивается какое-либо явление, может быть представлен через отрицание "недолжного".
Для создания комических ситуаций автор располагает двумя основными возможностями: комизм внешних положений (падения, неумение персонажа правильно ориентироваться в незнакомой среде, появление одного героя под именем другого и т. п.) и речевые средства (ирония, пародия, алогизм, парадокс ).
Отцом комедии считают древнегреческого драматурга Аристофана. В Древнем Риме славились произведения Теренция и Плавта. Античная комедия вращалась в кругу тем частной жизни человека из низших сословий.
Средневековая комедия многое заимствовала у карнавальных шествий, в которых вырабатывались устойчивые типажи, выставляемые на осмеяние (скупой, сутяга, обманутый муж и т. д.), и ряд повторяющихся ситуаций.
Так сложилась поэтика итальянской комедии масок (итал. commedia dell"arte), где знакомые зрителю персонажи (Доктор, Арлекин, Пульчинелла, Панталоне и др.) разыгрывали импровизированные сцены, носившие откровенно фарсовый или буффонадный характер. Фарс (от лат. farcio – начинять) – комедийные вставки в мистериях (см. далее). Сцены эти были исполнены грубовато-вольнодумного духа, и в них тоже встречались узнаваемые персонажи (слуга-пройдоха, ученый-педант, муж-простак и т. д.). Близка к фарсу и буффонада (итал. buffonata – паясничество) – эпизоды или ситуации, основанные на грубо подчеркнутом комизме положений (обливание водой, удары палкой, падения и т. п.). Наиболее отчетливо буффонада дает себя знать в современной цирковой клоунаде.
Комедия масок показательна для периода становления европейского национального театра. Впоследствии в драматургии останутся лишь отдельные элементы комедии масок, хотя полностью ее традиции не исчезают и поныне (например, режиссерские работы В. Мейерхольда, "Принцесса Турандот" в постановке Е. Вахтангова и др.).
В поэтике классицизма комедия относилась к разряду низких жанров, но именно комедии обессмертили имя Мольера, в творчестве которого яркие сценические положения сочетаются с рельефностью характеров. На тех же принципах основан и другой шедевр французской комедиографии XVIII века – "Женитьба Фигаро" П. Бомарше.
По мере развития драматургии акцент в комедии положений перемещается на сложную архитектонику интриги, а комизм ситуаций вытесняется комизмом характеров. Переходным звеном от комедии характеров становится водевиль (франц. vaudeville, от Vau de Vire – местность в Нормандии, где зародился этот жанр; по другим данным – voix de ville – городские голоса). Первые известия о водевиле относятся к XV веку, но тогда он еще не был особенно распространен.
Водевилем в XVIII веке назывались песенки-куплеты с повторяющимся припевом, которые были обязательным атрибутом ярмарочных представлений. Позднее именно наличие песенных куплетов, дополняющих или комментирующих комедийное действие, и стало отличительным признаком водевиля. Для водевиля XVIII – первой половины XIX столетия показательна сложная интрига, построенная на любовных отношениях, насыщенность каламбурами , неожиданными ситуациями с обязательным благополучным исходом. В водевиле не ставится сложных проблем, а если они и возникают, то решаются легко и просто, зачастую в результате счастливой случайности. Наиболее яркие образцы водевиля созданы были во Франции XIX века и представлены творчеством Э. Скриба, Э. Ла- биша. В России наибольшим успехом пользовались водевили Н. Хмельницкого, А. Шаховского, Д. Ленского, П. Каратыгина, Н. Некрасова. И в XX веке привлекает зрителя водевиль "Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка" (1839), который, несмотря на то что это выполненная Д. Ленским переделка французского оригинала, настолько близок к отечественным нравам первой половины прошлого столетия, что кажется оригинальным произведением.
Параллельно с водевилем в России складывается жанр так называемой "благородной" , или "светской" , комедии. Герои светской комедии принадлежали к дворянскому "просвещенному" сословию, действие в ней вращалось вокруг любовной интриги, присутствовал в светской комедии и обличительный момент (осмеяние жизни не по средствам, светских предрассудков, галломании и т. п.). Нередко светская комедия служила для авторов и средством сведения литературных счетов (пародирование литературных противников). В жанре светской комедии выступали А. Шаховской, Н. Хмельницкий, М. Загоскин. Особняком в этом ряду стоит творчество А. Грибоедова. "Горе от ума", являясь по формальным признакам типичной "благородной" комедией, раздвигает тесные рамки любовной интриги и основывается на "драме идей", а язык пьесы представляет собой блистательный образец непринужденной живой речи, до Грибоедова освоенной только в баснях Крылова.
Новая полоса расцвета русской комедии начинается в 1840-х годах. В начале этого периода стоит комедия Н. Гоголя "Ревизор" и другие его пьесы, из которых вырастает театр А. Островского. В пьесах этого драматурга отсутствует четкая грань между комическим и трагическим, характеры неоднозначны, а действие движется не столько любовной интригой, сколько социальными и нравственно-психологическими конфликтами. На протяжении более чем трех десятилетий русский театральный репертуар определялся прежде всего произведениями Островского, оказавшего сильнейшее влияние на развитие русской драматургии.
Сущность комедии конца XIX – начала XX века определяется напряженностью психологизма и почти полным забвением традиции комедии масок. Комизм положений уступает место так называемым "подводным течениям" в развитии сюжета ("Вишневый сад" А. Чехова). Новое распространение получает почти забытый жанр трагикомедии, возникший еще в эпоху Возрождения. В XX столетии трагикомедия отражает чувство относительности социальных и нравственных критериев, возникшее в обществе после многочисленных социальных катаклизмов XX века. В современной трагикомедии (Ф. Дюрренмат, Ж. Ануй, Э. Ионеско, С. Беккет) невозможно выделить преобладание трагического или комического начал – они лишь усиливают друг друга, приводят к нерешенности, "отложенности" конфликта. Впрочем, именно на такой эффект и рассчитана современная трагикомедия.
Результатом развития поэтики водевиля явилась и оперетта. Оперетта, зародившаяся во Франции в середине XIX века, представляет собой произведение комедийной направленности, причем удельный вес музыкального сопровождения и вокально-танцевальных сцен в нем по сравнению с водевилем значительно возрастает. Недаром автором оперетты обычно называют не драматурга, а композитора (оперетты Штрауса- сына, Легара, Кальмана, Оффенбаха и т. д.). Русская оперетта возникла уже в XX веке (оперетты И. Дунаевского, Ю. Милютина, В. Соловьева-Седова).
Опера (итал. opera – сочиняю) определяется в словарях как "вид театрального искусства, в котором сценическое действие тесно слито с музыкой – вокальной и оркестровой" и в литературоведческих справочных изданиях, как и оперетта, не фигурирует. Меж тем и оперетта и опера все же не существуют без литературного текста. В сочинениях итальянского поэта-либреттиста XVIII века П. Метастазио опера иногда называется "лирической трагедией", а в характеристике всемирно известного немецкого композитора XIX века Р. Вагнера подчеркивается, что он "приблизил оперу к драме". Таким образом, признавая главную зависимость оперы и оперетты от музыки, нельзя в то же время отторгать их и от литературы.
До сих пор мы говорили о драме только как о литературном роде. Но термин "драма" имеет и другое значение. Собственно драмой называется одна из разновидностей драмы – литературного рода.
Драма занимает промежуточное положение между трагедией и комедией. Подобно трагедии, драма базируется на социально-психологических конфликтах, однако конфликт в драме не столь напряжен, как в трагедии, и может иметь относительно благополучную развязку. Как и комедия, драма вращается в сфере частной жизни, которую драматург не пытается "исправить" смехом, а стремится проанализировать сущность изображаемых в драме конфликтов. В драме, как и в трагедии, преобладает серьезный тон, но комизм ей тем не менее вовсе не противопоказан.
Античность не знала драмы как самостоятельного вида, хотя элементы драмы присутствуют уже в трагедиях Еврипида и его продолжателей. Одним из первых этапов оформления драмы стала драма литургическая (греч. leiturgia – обедня, главное христианское церковное богослужение). В IX–XIII веках она представляла собой театрализованное представление на темы Ветхого и Нового Заветов, разыгрывающееся во время рождественской и пасхальной служб, дабы новообращенные христиане могли наглядно ознакомиться с церковной историей (например, "Действо об Адаме", XII в.).
В XIV–XVI веках литургическая драма трансформировалась в мистерию (от греч. mysterion – тайна, таинство). Мистерия, также черпавшая сюжеты из Библии, вышла из врат церкви на городскую площадь и ярмарку. Вслед за эпизодами религиозного содержания в мистерии следовали интермедии (лат. Intermedius – находящийся посредине) – комические, фарсовые эпизоды, далекие от религиозности, а то и пародирующие основную линию сюжета. С течением времени эта тенденция только усилилась, что вызвало неудовольствие клерикальных кругов, и с середины XVI века мистерия в большинстве европейских стран была запрещена. В конце XIX – начале XX века во Франции и Германии предпринимались попытки возрождения мистерии в новых формах, не увенчавшиеся, однако, успехом. В. Маяковский приспособил мистериальную оболочку для создания революционно-героического действа ("Мистерия-буфф", 1918), акцентируя в нем пародийное начало.
Близкое родство с мистерией имело и моралите (от лат. moralis – нравственный), зародившееся также в XIV–XVI веках. Моралите было народным представлением учительного характера, тематический диапазон которого был очень широк: от религиозных и философских сюжетов до исторических, бытовых и сказочных. Персонажи моралите должны были пониматься аллегорически, о чем зрителям напоминали постоянные атрибуты действующих лиц (так, Смерть появлялась в саване, с косой и песочными часами, Мир – с пальмовой ветвью и т. д.).
Драма в ее современном значении возникает не ранее первой половины XVIII века и получает наименование "мещанской драмы". Она противостояла "высоким" образам и идеям классицизма и свидетельствовала о движении искусства в сторону демократизации.
Драматурги этой эпохи (Д. Дидро, Г. Лессинг, П. Бомарше и др.) перестают выводить на сцену королей и герцогов, отказываются от патетики классицизма и делают героями событий выходцев из "третьего сословия", доказывая, что и простолюдинам доступен весь спектр человеческих чувств. Одним из образцов такого рода произведений стала драма Лессинга "Минна фон Барнхельм" (1767).
Вслед за мещанской драмой возникает и мелодрама (греч. melos – песня, мелодия и drama – действие, драма). Опознавательными приметами мелодрамы являются повышенная эмоциональность, порой переходящая в аффектацию, напряженность и запутанность интриги и моралистическая заостренность. Мелодрама зародилась на рубеже XVIII–XIX веков и существует и в наши дни. Одной из наиболее долго живущих мелодрам была мелодрама французского драматурга В. Дюканжа "Тридцать лет, или Жизнь игрока" (1827), прочно утвердившаяся в репертуаре европейских и российских театров. В XX веке мелодрама перекочевала из театра в кино и на экраны телевизоров.
Драма в ее современном понимании прошла длительный и сложный путь, заняв ведущее место в мировой драматургии, и характеризовать ее развитие, значит, воспроизводить историю всей драматургии в целом. Поэтому ограничимся лишь указанием на ее важнейшие этапы. Романтическая драма (первая треть XIX в.), вершинные достижения которой представлены произведениями В. Гюго; драма реалистическая (от пьес А. Островского, A. Сухово-Кобылина, А. Чехова до драм Г. Ибсена, Г. Гауптмана и Л. Толстого); драма символистская (М. Метерлинк, Г. Гофмансталь, А. Блок). Как особый период истории драмы следует рассматривать драму советского периода, общая направленность которой зависела от государственных идеологических установок – в поддержку их, а иногда и в полемике с ними (пьесы B. Вишневского, К. Тренева, Н. Погодина, Л. Леонова, К. Симонова, В. Розова, М. Шатрова и др.).
Отечественная драма, как и вся литература вообще, в последние годы тяготеет к смешению драматического и комического, реального и символического, возвышенного и натуралистического.
Тенденция к взаимопроникновению и смешению жанров в литературе и литературоведении, между прочим, выразилась и в том, что любое произведение (роман, басня, поэма или газетный фельетон) стало восприниматься как текст вообще.
Понятие "текст" многозначно. Вначале оно сопрягалось с произведениями древности: ассирийский, древнерусский и т. д. тексты. Textum (лат.) – это и ткань, одежда, связь, строение, слог, стиль. Textus – структура, сплетение, связное изложение. Техо – ткать, сплетать, сочетать и сочинять. Таким образом, текст понимается как нечто не существовавшее в природе и сотворенное человеком, причем все элементы данного текста искусно связаны меж собой.
В лингвистике дается более строгое определение текста: это "произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа; произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда основных единиц... объединенных разными типами лексической, грамматической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку" . Иногда вместо термина "текст" употребляется термин "дискурс", вначале применявшийся для обозначения произведений устной речи. Впрочем, и в настоящее время дискурс больше относится к разговорному процессу, в котором могут участвовать несколько собеседников.
Текст изучается в трех направлениях – в текстологии, в поэтике (см. главу I) и в герменевтике. Герменевтика (греч. hermeneia – толкование, объяснение) занимается толкованием текстов, и не только древних, но и сравнительно недавнего происхождения. Так, без герменевтического комментария для читателя остаются "темными" многие места "Мастера и Маргариты" М. Булгакова или "Двенадцати стульев" И. Ильфа и Е. Петрова.
Герменевтический комментарий зависит от эпохи: какие- то реалии, общепонятные в пору создания художественного текста, со временем уходят из жизни, и новые поколения нуждаются в разъяснении имен, фактов, идей, концепций и т. д.
Любой художественный текст может быть истолкован по-разному. Известно, что для Н. Добролюбова и его единомышленников Обломов и "обломовщина" являлись символом апатии и застоя, а Штольц – представителем бездушного капитализма. Н. Михалков в своей киноверсии гончаровского романа в Обломове ценит тонкость души и романтическую мечтательность, противопоставляя их сухому рационализму Штольца. "...Стихотворение Некрасова "Железная дорога"... посвящено обличению русских чиновников, построивших железную дорогу на крови и костях простых людей. Так, вероятно, считал и сам поэт Некрасов". На исходе XX столетия, в русле неомифологизированного сознания, "Железная дорога" в истолковании современного исследователя предстала как воспевание "строительной жертвы". "В соответствии с достаточно универсальным мифологическим представлением постройка тем крепче, чем больше человеческих жертв принесено на ее алтарь (на этом основан один их киношедевров Сергея Параджанова "Легенда о Сурамской крепости"). Некрасов пришел бы в ужас от такой интерпретации, но он сам в стихотворении "Поэт и гражданин" пишет:
Современный словарь-справочник по литературе. С. 246. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. С. 18.
Произведения художественной словесности принято объединять в три большие группы, получившие название литературных родов, - эпос, драма и лирика.
Эпос и драма имеют ряд общих свойств, отличающих их от лирики. В эпических и драматических произведениях воссоздаются события, протекающие в пространстве и времени! Здесь изображаются отдельные лица (персонажи), и?с взаимоотношения, намерения и поступки, переживания и высказывания. И хотя воспроизведение жизни в эпосе и драме неизменно выражает авторское осмысление и оценку характеров персонажей, читателям нередко кажется, что изображенные события произошли независимо от воли автора. Иначе говоря, произведения эпические, и в особенности драматические, могут создавать иллюзию своей полной объективности.
Драма и в особенности эпос обладают неограниченно широкими идейно-познавательными возможностями. Свободно осваивая жизнь в ее пространственной и временной протяженности авторы эпических и драматических произведений могут рисовать яркие, детализированные разнообразные картины бытия"в его изменчивости, конфликтности, многоплановости"" и одновременно проникать в глубины сознания людей, воссоздавать их внутреннюю жизнь. При этом оба литературных рода способны запечатлевать самые разные характеры и соотношения их с жизненными обстоятельствами. Драма и эпос, говоря иначе, «действуют» в бескрайне широкой содержательной сфере: им доступны любые темы, проблемы и виды пафоса.
Эпические и драматические произведения вместе с тем резко отличаются друг от друга. Организующее формальное начало эпоса - повествование о событиях в жизни персонажей и их поступках. Отсюда название этого рода литературы (гр. epos - слово, речь). Средства предметной изобразительности здесь используются наиболее свободно и широко.
В драме (гр. drao - действую) повествование в сколько-нибудь развитой форме отсутствует. Текст произведения состоит прежде всего из высказываний самих персонажей, посредством которых они действуют в изображаемой ситуации. Авторские же пояснения к словам героев сведены к так называемым ремаркам (фр. remarquer - замечать), имеющим лишь вспомогательное значение. Специфика драмы как литературного рода определяется ее предназначенностью для сценической постановки.
Слово «лирика» образовано от древнегреческого названия музыкального инструмента лиры, под аккомпанемент которой исполнялись (пелись) словесные произведения. Лирика отличается от эпоса и драмы прежде всего предметом изображения. Развернутое и детализированное воспроизведение событий, поступков, взаимоотношений людей в ней отсутствует. Лирика художественно осваивает преимущественно внутренний мир человека как таковой: его мысли, чувства, впечатления. В ней максимально воплощается субъективное начало человеческой жизни. Однако ощущение полной, «абсолютной» субъективности лирики, возникающее порой при ее чтении, является иллюзорным: лирическое творчество содержит глубокие познавательные обобщения.
Речь в лирике выступает прежде всего в ее выразительной (экспрессивной) функции, она непосредственно и активно воплощает эмоциональное отношение к жизни высказывающегося (носителя речи) - так называемого лирического героя. Поэтому речевой строй лирического произведения - его важнейшее формальное начало: нюансы словоупотребления и построения фраз, а также ритмическая упорядоченность текста здесь особенно существенны.
Понятие литературного рода возникло в античной эстетике, в сочинениях Платона и Аристотеля. В третьей главе аристотелевской «Поэтики» говорится о существовании в поэзии (т. е. искусстве слова) трех «способов подражания»: «Подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чем-то отдельном от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам собой, не изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых лиц как действующих и деятельных» (20, 45). Обозначенные Аристотелем «способы подражания» впоследствии и стали называть литературными родами. Это понятие характеризует
Эпос, лирика и драма сформировались на самых ранних этапах существования общества, в первобытном синкретическом творчестве. Происхождению литературных родов посвятил первую из трех глав своей «Исторической поэтики» Ал-р Н. Веселовский (36, 200-313); в ней он доказывал, что литературные роды возникли из обрядового хора первобытных народов.
Обрядовый хор, сопровождавший пляску и мимические действия, включал в себя, по мысли Веселовского, возгласы радости и печали, которые выражали коллективную эмоциональность. Из подобных возгласов возникла лирика, которая впоследствии отделилась от обряда и обрела художественную самостоятельность. Из выступлений запевал (корифеев) обрядового хора сформировались лиро-эпические песни (кантилены). Из этих песен, впоследствии тоже отделившихся от обряда, возникли героические поэмы (эпопеи). И, наконец, из обмена репликами участников обрядового хора возникла драма.
Теория происхождения литературных родов, выдвинутая Веселовским, подтверждается множеством известных современной науке фактов из жизни первобытных народов. Так, несомненно возникновение театральных представлений (а на их основе - и драмы) из обрядовых игрищ.
Вместе с тем в теории Веселовского не учтено, что эпос и лирика могли формироваться и независимо от обрядовых действий. Мифологические сказания, из которых впоследствии сложились прозаические легенды (саги) и сказки, появились вне обрядового хора. Их не пели, а рассказывали друг другу представители племени. Лирика тоже могла возникать вне обряда. Лирическое самовыражение имело место в производственных (трудовых) и бытовых отношениях первобытных народов. Таким образом, существовали разные пути формирования литературных родов, и обрядовый хор был одним из ни.х.
Под влиянием литературного процесса представления о родах так или иначе менялись. Они были приведены в систему представителями немецкой эстетики конца XVIII - начала XIX в.: в работах Шиллера и Гёте, позднее - Шеллинга и Гегеля. В русле идей этих авторов (прежде всего Гегеля) развивал свою теорию литературных родов Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и виды» (1841). Он видел в эпосе, драме, лирике
определенные типы содержания и разграничивал роды с помощью категорий «объекта» и «субъекта» художественного познания. Эпические произведения связывались с представлением об объекте. «Эпическая поэзия, - писал Белинский, - есть по преимуществу поэзия объективная, внешняя, как в отношении к самой себе, так и к поэту и его читателю» (25, 9). И дальше: «Здесь не видно поэта; мир, пластически определенный, развивается сам собою, и поэт является только как бы простым повествователем того, что свершилось само собой» (25 10). Лирика, напротив, понималась как сфера субъективности поэта. «Лирическая поэзия, - читаем у Белинского, - есть по преимуществу поэзия субъективная, внутренняя, выражение самого поэта» (25, 10). И, наконец, драма рассматривалась как «синтез» объективности и субъективности. Произведение этого литературного рода, по Белинскому, «есть примирение противоположных элементов - эпической объективности и лирической субъективности» (25, 16).
Эта концепция литературных родов обобщает многовековой художественный опыт. Многие из высказанных Белинским мыслей унаследованы советским литературоведением, для которого особенно важен акцент на содержательные функции родовых форм.
Вместе с тем в названной статье есть известная односторонность: не только драма, но и любое художественное произведение соединяет в себе объективность (т.е. отражает действительность) и субъективность (поскольку оно выражает осмысление писателем жизни). Об этом неоднократно говорил и сам Белинский в более поздних работах. Он, в частности, подчеркивал важность субъективного начала в эпических произведениях, прежде всего в романах и повестях.
Наряду с делением литературы на роды (эпос, лирика, драма) существует деление ее на поэзию и прозу. В обиходной речи лирические произведения нередко отождествляются с поэзией, а эпические - с прозой. Подобное словоупотребление неточно. Каждый из литературных родов включает в себя как поэтические (стихотворные), так и прозаические (нестихотворные) произведения. Эпос на ранних этапах искусства был чаще всего стихотворным (эпопеи античности, французские песни о подвигах, русские былины и исторические песни и т. п.). Эпические в своей родовой основе произведения, написанные стихами, нередки в литературе нового времени («Дон-Жуан» Байрона, «Евгений Онегин» Пушкина, «Кому на Руси жить
хорошо» Некрасова). В драматическом роде литературы также применяются ка-к стихи, так и проза, порой соединяемые в одном и том же произведении (многие пьесы Шекспира, «Борис Годунов» Пушкина). Да и лирика, по преимуществу стихотворная, иногда бывает прозаической.
В теории литературных родов возникают и иные, более серьезные терминологические проблемы. Слова «эпическое» («эпичность»), «драматическое» («драматизм»), «лирическое» («лиризм») обозначают не только родовые особенности произведении, о которых шла речь, но и другие их свойства.
Эпичностью называют величественно-спокойное, неторопливое созерцание жизни в ее сложности и многоплановости, широту взгляда на мир и его приятие как некоей целостности. В этой связи нередко говорят об «эпическом миросозерцании», художественно воплотившемся в гомеровских поэмах и ряде позднейших произведений («Война и мир» Л.Толстого). Эпичность как идейно-эмоциональная настроенность может иметь место во всех литературных родах - не только в эпических (повествовательных) произведениях но также в драме («Борис Годунов» Пушкина) и лирике («На поле Куликовом» Блока). Драматизмом принято называть умонастроение, связанное с напряженным переживанием каких-то противоречий, с взволнованностью и тревогой. И, наконец, лиризм - это возвышенная эмоциональность, выраженная в речи автора, рассказчика, персонажей. Драматизм и лиризм тоже могут быть свойственны всем литературным родам. Так, исполнены драматизма роман Л. Толстого «Анна Каренина» и стихотворение Цветаевой «Тоска по Родине». Лиризмом проникнуты роман Тургенева «Дворянское гнездо», пьесы Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад», рассказы и повести Паустовского.
Важно поэтому различать, с одной стороны, эпос, драму, лирику как литературные роды, а с другой - эпичность, драматизм, лиризм как эмоциональную настроенность произведений.
Раздел второй
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ
то называют идеей. Но этот термин будет объяснен
позднее, а пока заметим, что содержание художественного
произведения заключает в себе разные стороны, для опре
деления которых существуют три термина - тематика,
проблематика, идейн о-э моциональная
оценка. Начинать анализ, естественно, надо с того, какие характерные явления действительности нашли отражение в данном произведении. Это вопрос об особенностях тематики.
Глава IV
ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Воспроизводя жизнь в слове, используя все возможности человеческой речи, художественная литература превосходит все другие виды искусства разносторонностью, разнообразием и богатством своего содержания. Содержанием нередко называют то, что непосредственно изображено в произведении, то, что можно пересказать после его прочтения. Но это неточно. Если перед нами эпическое или драматическое произведение, то пересказать можно то, что случилось с героями, что с ними произошло. Изображенное в лирическом произведении пересказать, как правило, вообще невозможно. Поэтому надо различать то, что познается в произведении, и то, что в нем изображается. Изображаются персонажи, творчески созданные, вымышленные писателем, наделенные всякого рода индивидуальными особенностями, поставленные в те или иные взаимоотношения. Познаются общие, существенные особенности жизни. Индивидуальные поступки и переживания персонажей и героев служат способом выражения идейно-эмоционального осмысления и эмоциональной оценки общего, существенного в жизни. Анализ произведения и должен заключаться в том, чтобы через внимательное рассмотрение всего непосредственно изображенного углубиться до понимания выраженной в нем эмоционально-обобщающей мысли писателя, которую час-
Глава шестая. Литературные роды и виды (доц. Богданов А.Н.)
Общее понятие о роде и виде
Отображая различные стороны действительности, искусство отличается многообразием не только содержания, но и форм воспроизведения жизненного материала. К этим формам, органически связанным с содержанием, относятся категории области искусства, рода, вида и жанра (разновидности).
Область искусства * - это самая емкая и широкая категория, позволяющая установить зависимость между очень большими группами произведений в истории искусств. Их сближает между собой использование самых общих принципов, приемов, средств при создании художественных образов.
* (Термин "область искусства" представляется нам более правомерным, чем широко распространенный "вид искусства", поскольку последняя категория используется и для обозначения внутриродового деления (вид музыки, вид живописи, вид литературы). )
Род - это категория, обозначающая сходство между произведениями внутри определенной области искусства. Вид соотносится с родом как частное с общим. Так, например, видами эпического рода являются роман, повесть, рассказ. Понятие разновидности применяется для характеристики сочинений, входящих в общий вид, но различающихся между собой по более частным особенностям содержания и формы. Однако эта категория не находит до сих пор четкого определения и из-за этого нередко смешивается с подвидом, модификацией и т. д. Термин "жанр" представляется более целесообразным использовать для обозначения тех разновидностей, которые обладают устойчивыми особенностями содержания и формы * . Это определение отражает реально существующую в произведениях искусства взаимосвязь между элементами содержания и формы, которая придает им подлинное единство и завершенность, что позволяет рассматривать жанр как исходную единицу классификации.
* (Термин "жанр употребляется для обозначения и рода, и вида. Нередко смешиваются понятия рода, вида, разновидности; отсутствуют принципы разграничения произведений по разновидностям. )
Место литературы в системе искусств
На первобытных ступенях своего развития искусство отличалось синкретическим характером. В древности в нерасчленимом единстве существовали в народных обрядах те элементы, из которых впоследствии возникли музыка, драма, хореография и другие области, роды и виды искусства. А. Н. Веселовский, обосновавший понятие синкретизма первобытного искусства, в своей "Исторической поэтике" рассматривал выделение из древнейших хоровых песен-плясок, сопровождаемых мимическим действием, лиро-эпической песни, из которой впоследствии разовьется героический эпос, лирической песни и, наконец, культовой драмы, предвосхитившей сценическую драму античности. Разграничение различных областей, родов и видов искусства происходило в процессе перехода от коллективного творчества в доклассовом обществе к индивидуальному. От запевалы хора путь ведет к певцу и поэту - носителю сознания определенной социальной группы классового общества.
Разделение труда, увеличение экономического благосостояния, развитие абстрактного мышления и чувств человека в процессе познания действительности косвенным образом способствовало дифференциации различных жанров в системе искусств.
Разграничение областей искусства связано прежде всего с различием приемов и средств воспроизведения действительности. Некоторые из них способны запечатлеть жизненные явления лишь в определенный момент, передать лишь одно состояние природы или человека. В отличие от таких статичных искусств, как скульптура и архитектура, другие искусства обладают возможностями передачи изменения действительности во времени. К таким "временным" искусствам относят обычно музыку и литературу.
Пантомима и танец позволяют отразить жизненное явление не только во времени, но и в пространстве, поэтому их называют пространственно-временными искусствами. Скульптуру, архитектуру и живопись относят к группе пространственных искусств, представляющих изображение в двухмерном или трехмерном измерении. Наконец, существует все более и более расширяющаяся группа синтетических искусств, в которую входят театр (драматический и музыкальный), кинематография, телевидение, использующие как свои собственные специфические приемы и средства, так и заимствованные в преображенном виде из других областей.
При классификации исследователи обращают внимание и на способность искусства воздействовать на определенные органы чувств читателя или зрителя, воспринимающего художественное произведение. Отсюда отличие искусства звука (музыка) от зрелищных искусств (живопись, скульптура и т. д.). Впрочем, большинство современных искусств стремится расширить сферу своего воздействия на человека. В связи с этим наблюдается не только усиливающееся значение синтетических искусств, но и интересные эксперименты в области цвето-музыки, театрализации эпических, лирических и вокальных сочинений.
Каждая из входящих в систему искусств область обладает своей спецификой, позволяющей наиболее полно и эмоционально отразить те или иные стороны бытия. Именно с этим связаны и их различные взаимоотношения между собой, выдвижение в определенные исторические периоды на первый план одних, слабое развитие или даже упадок других. Наконец, каждая область искусства включается в определенную идеологическую систему и соприкасается с различными областями внехудожественной деятельности. Так, художественная литература тесно связана с политикой и историей ("Утопия" Мора, "Вылете и думы" Герцена, политическая сатира Д. Бедного, В. Маяковского, С. Маршака), архитектура - со строительной техникой. Многие виды танцев сейчас включают элементы спортивной акробатики, а пластическая гимнастика сближается с хореографией. Все труднее обнаружить грань между фотомонтажом и художественным плакатом.
Одна из самых древнейших областей искусства - архитектура. Она до сих пор неразрывно связана с удовлетворением материальных запросов человека, которое, в известной степени, утратили, например, музыка или хореография. Искусство строить здания и сооружения не только отвечает решению практических задач, но и своеобразным языком выражает общественно-эстетические идеалы человечества.
В величественных пирамидах и грандиозных храмах древнего Египта отразились в эстетической форме представления правящей верхушки о незыблемости и божественной природе власти жрецов и фараонов. Архитектура этого периода подчинила себе в значительной мере все другие области искусства. Величавость и торжественность древнеегипетских гимнов, которые часто высекались на обелисках, соответствовала всему стилю подавлявших человека египетских храмов.
В античной Греции и Риме на первое место выдвигаются зрелищные искусства - театр, цирк и особенно скульптура. Последняя область (лат. sculpo - "высекаю", "вырезаю") позволяет рельефно передать неповторимое своеобразие человеческого лица и телосложения, жестов и позы в трехмерной, зрительно воспринимаемой форме. Объемность скульптурных произведений позволяет выразительно запечатлеть один момент из динамического процесса жизни.
Не случайно Аристотель "слово и метр" определял в сравнении с мрамором и красками, а авторы стихотворных произведений его эпохи пытались состязаться в пластичности изображения с творцами скульптур. Зрительная выразительность образов в поэмах Гомера, в эклогах Феокрита и "Метаморфозах" Апулея была обусловлена этой непосредственной зависимостью от изобразительного искусства в эпоху его расцвета в античном мире.
В период средневековья наряду с архитектурой интенсивное развитие получает декоративно-прикладное искусство (лат. decoro - "украшаю"). Оно связано с художественной обработкой различных предметов, украшением архитектурных сооружений. "Их создатели стремятся найти эмоционально-выразительную форму предмета, такие его пропорции, очертания, ритм, цветовые отношения, такой материал и фактуру, такой орнаментальный мотив, которые в совокупности выражали бы определенное душевное состояние, определенное настроение и могли бы заразить им зрителя" * .
* (М. Каган. О прикладном искусстве. Л., 1961, стр. 77. )
К декоративно-прикладному искусству относится чеканка медалей, литье драгоценной посуды, изготовление узорчатых тканей и ювелирных украшений, ковров и облицовочной керамики. Общим для всех них является использование орнамента - узора, отличающегося симметричным расположением специфических элементов.
Влияние декоративно-прикладного искусства в этот период так велико, что даже появление отдельных трактатов по поэтике в значительной мере было связано с изучением чисто технических сторон ремесла поэта. Изумительная виртуозность в изготовлении ювелирных и других декоративных изделий оказывала свое влияние на авторов литературных произведений, которые часто варьировали известные сюжетные мотивы и образы, стремясь достигнуть совершенства в строго рассчитанной, симметричной композиции, в отчетливости и филигранности каждой детали.
Начиная с эпохи Возрождения вплоть до XVIII в. первенствующее место в европейской системе искусств начинает занимать живопись. Произведение живописи способно отразить более сложные психологические состояния людей, чем скульптура, передать богатство цветовой и световой гаммы окружающего мира, многообразие явлений природы и общественной жизни. Живописец, рисуя, изображая предметы в двухмерной плоскости, с помощью сочетаний различных линий, света и тени, использования красок и перспективы создает иллюзию объемности, вызывает впечатления, близкие к тем, которые дает трехмерное изображение действительности. Именно в способности художника выразить гармонию и пропорциональность действительности в целостной картине, которая воспринимается при одновременном созерцании ее частей, Леонардо да Винчи и видел преимущество живописи перед литературой. "В странах с развитым изобразительным искусством законы, принятые в нем, невольно переносились на литературу и даже предписывались ей теоретиками", - справедливо отмечает Н. А. Дмитриева * . Лессинг был одним из первых теоретиков, выступивших против распространенных у классицистов мнений о тождественности пластического образа и образа словесного. Специфику поэзии он видел не в "зримой" обрисовке людей и событий, а в выражении тех эмоций, которые они производят на поэта.
* (Н. А. Дмитриева. Литература и другие виды искусства. К.ЛЭ, т. 4. М. 1967, стр. 237. )
К началу XIX в. литература выдвигается на первое место в системе искусств, впитав в себя все то лучшее, что было в других областях и вместе с тем отчетливо определив свою специфику и свои выразительные средства. "Поэзия выражается в свободном человеческом слове, - писал В. Г. Белинский, - которое есть и звук, и картина, и определенное, ясно выговоренное представление. Посему поэзия заключает в себе элементы других искусств, как бы пользуется вдруг и нераздельно всеми средствами, которые даны порознь каждому из прочих искусств. Поэзия представляет собою всю целость искусства, всю его организацию и, объемля собою все его стороны, заключает в себе ясно и определенно все его различия" * . Искусству слова нет преград не только в изображении природы и человека, его эмоций, но и в анализе мыслей и чувств, в ассоциативном познании действительности ** . Вслед за литературой интенсивно развиваются в XIX в. музыка, театр, хореография и графика, причем каждая из этих областей искусства все отчетливее и отчетливее выявляет связь с искусством слова.
* (В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 9. )
** (Специфика литературы подробно освещается в специальной главе настоящего пособия. )
Музыка на заре своего развития была органически соединена со словом. В древнейших трудовых песнях ритм, связанный с выполнением определенной работы, подчинял и выбор слов (в связи с чем иногда даже снижалось или нарушалось их смысловое значение) и выбор напева. Во все времена и у всех народов неизменной популярностью пользовались песни и другие виды музыкально-поэтических произведений, в которых образы создаются органическим слиянием слова и мелодии.
Эволюция музыки способствовала выявлению и утверждению таких ее специфических средств, как мелодия, гармония, полифония, тембр и др. Постепенно эта область искусства, отражающая жизнь в звуковых образах, отделяется от своих первоистоков - интонации человеческой речи, звуков природы и быта. Создаются сочинения для отдельных инструментов, ансамблей, оркестров, в которых с исключительной эмоциональной силой выражаются чувства и настроения людей. С особенной яркостью и отчетливостью специфика собственно музыкальных средств выявляется в симфониях, достигших изумительного совершенства в творчестве Бетховена, Чайковского и др. Однако и здесь обнаруживается их тесная связь со словом. Лучшие из них отличаются "программным характером": в их названиях, а порой и в развернутых изложениях, словесно выражалось составляющее их содержание. В операх и опереттах, кантатах и романсах литературная первооснова приобретает все большее и большее значение. Без пушкинских поэм и драм немыслимы музыкальные шедевры Глинки и Даргомыжского, Мусоргского и Чайковского.
Достижения музыки и литературы способствовали расцвету в XIX-XX вв. хореографии - искусства танца. В балете своеобразное воплощение получили образы и сюжетные мотивы сказок Перро и Гофмана ("Спящая красавица" и "Щелкунчик" Чайковского), поэм и повестей Пушкина ("Бахчисарайский фонтан" и "Барышня-крестьянка" Асафьева), трагедий Шекспира ("Ромео и Джульетта" Прокофьева и др.). Исполнители хореографических произведений создают пластичные и вместе с тем динамические образы, позволяющие назвать их "ожившими скульптурами".
В современном европейском театре хореография становится одним из самых сложных синтетических искусств, включающих в себя наряду с танцем, пантомимой и музыкой еще и изобразительные искусства, а порою даже вокальное (романс в прологе "Бахчисарайского фонтана" Асафьева, заключительный хор в его же балете "Пламя Парижа" и др.).
Среди различных родов изобразительного искусства в XIX-XX вв. одно из ведущих мест начинает занимать графика - искусство рисунка. Близкая по своим основным средствам выражения к живописи, графика отличается тем, что в ней цвет не имеет существенного значения, образы более лаконичны и просты. Это позволяет создавать серии рисунков, иллюстрирующих литературные произведения (например, иллюстрации Делакруа к "Фаусту" Гете, Боклевского к "Мертвым душам" Гоголя, Шмаринова к роману А. Толстого "Петр I"). В сатирических плакатах, в карикатурах с подписями и некоторых других видах графики слово и рисунок- составляют нерасторжимое единство.
К середине XX в. театр и особенно кинематография обгоняют в своем стремительном развитии все другие области искусства. Произведения, созданные в этих жанрах, особенна после изобретения телевидения, получают небывалое прежде массовое распространение. При все углубляющейся и расширяющейся системе выразительных средств в каждой из этих синтетических областей искусства их первооснову составляет слово, сохраняющее, как и в литературе, значение "первоэлемента" художественного образа. Именно эта зависимость от искусства слова дает основание современным теоретикам рассматривать, например, кинодраматургию как новый род литературы.
Растущие в наше время связи литературы с другими областями художественного творчества свидетельствуют об усилении присущей искусствам тяги к синкретизму. Взаимодействуя и взаимообогащаясь, различные виды и роды искусств способствуют более глубокому и полному художественному освоению действительности.
История классификации литературных родов
Само выделение родов и разновидностей в литературе, как и в других областях искусства, происходило постепенно. Сложность систематизации литературных произведений объясняется развивающимся многообразием жанровых форм, подвижностью общих принципов их разграничения. В связи с этим ряд современных зарубежных литературоведов вслед за итальянским философом Б. Кроче стали отрицать существование каких-либо закономерностей, позволяющих классифицировать произведения по родам и видам. Однако большинство даже далеких от материалистического мировоззрения ученых признает наличие объективных критериев, делающих целесообразным такое разграничение.
Самая распространенная в литературоведении наших дней классификация литературных произведений по трем основным родам (эпос, лирика, драма) восходит еще к античной эпохе. В третьей книге "Государства" Платон отметил, что поэмы могут изображать события тремя способами. В лирических произведениях (в дифирамбах) "поэт говорит от себя и не стремится изменить направление нашей мысли так, будто, кроме него, говорит еще кто" * . В драматических произведениях поэт применяет, по мнению этого философа, "подражание", вкладывая свои слова в уста других героев, заставляя их говорить за себя. В эпической поэзии сочетаются и тот и другой способы изображения ("смешанный тип рассказа"). При этом принципе классификации внимание обращается только на речевую форму изложения событий в произведении - монологическую или диалогическую.
* (Античные мыслители об искусстве. М., 1938, стр. 78-79. )
Во многом следуя за Платоном, Аристотель излагает три способа "подражания", которые соответствуют, по современной терминологии, трем литературным родам. Эпос, по его мнению, связан с повествованием "о событии как о чем-то отдельном от себя". В лирике автор рассказывает о событиях от своего имени, "подражающий" остается самим собой, "не изменяя своего лица" * ; В драме же он представляет "всех изображаемых лиц как действующих и деятельных" ** . При разделении литературных произведений по родам Аристотель обращает внимание не столько на различия речевой формы повествования, сколько на то, как воспроизводится событие, как строятся образы в различных родах. Он подчеркивает, например, что в драме поэты "представляют людей действующими и притом драматически действующими" *** .
* (Античные мыслители об искусстве, стр. 78-79. )
** (Аристотель. Об искусстве и поэзии, стр, 45. )
*** (Аристотель. Об искусстве и поэзии, стр, 46. )
Классицисты, ориентируясь на античных теоретиков и в большинстве случаев превратно их понимая, пытались построить строго регламентируемую классификацию произведений по жанрам. Буало в "Поэтическом искусстве" утверждал необходимость различать высшие и низшие жанры, резко выступая против нарушения их "чистоты".
Гете и Шиллер в наброске "Об эпической и драматической поэзии", написанном в 1797 г., выступили против классицистов. Они справедливо подчеркивали, что в различных родах литературы могут быть изображены сходные объекты и использованы любые мотивы. Основное же различие между родами заключается, по их мнению, во времени воспроизведения события: "...Эпический поэт излагает событие, перенося его в прошедшее, драматург же изображает его как совершающееся в настоящем" * . Гете и Шиллер обратили внимание и на то, что драма подчиняется законам театра. А это, по их мнению, делает ее творением другой области искусства, лишь смежной с литературой.
* (И. Гете. Избр. произв. М., 1950, стр. 678. )
Гегель, вслед за Шеллингом и другими эстетиками немецкой классической философии, стремился объяснить разделение поэзии на роды, исходя из различного отношения поэтов к действительности. Объективное отражение событий и характеров в произведении, полагал, он, характерно для эпоса. "... Ради объективности целого поэт как субъект должен отступить перед объектом и в нем исчезнуть, - утверждал Гегель. - Даже то, что происходит внутри героя, поэт объясняет объективно... Произведение поется как бы само и выступает самостоятельно без автора во главе" * . Субъективное воспроизведение жизни характерно для лирики: "Ее [лирики] содержание составляет субъективность, внутренний мир, созерцающая, чувствующая душа... Поэтому то, как субъект высказывается, является единственной формой и последней целью лирики" * . В драме, по мнению Гегеля, объективное изображение событий соединяется с субъективным "в новую целостность". Поступки персонажей определяют объективно-эпическое начало; слова героев, выражающие их чувства, вызванные событиями, определяют субъективно-лирическое начало. Гегель отмечал связь драмы с другими областями искусства - c музыкой, хореографической пантомимой и т. д. ** .
* (Гегель. Лекции по эстетике. Кн. 3. Соч., т. 12, стр. 225. )
** (Гегель. Лекции по эстетике. Кн. 3. Соч., т. 12, стр. 234. )
В отличие от классицистов, защищавших чистоту жанров, Гегель признает возможным создание лиро-эпических произведений, относя к ним романсы и баллады.
Вслед за Гердером Гегель утверждал принцип исторического развития родов, хотя и ошибочно связывал их эволюцию с символическим выражением абсолютной идеи.
Романтики, выступая против классицистов, подчеркивали относительный характер родовой классификации и утверждали постоянное взаимопроникновение особенностей различных родов в произведениях. В "Предисловии к "Кромвелю", явившемуся подлинным манифестом прогрессивного романтизма, В. Гюго утверждал историческую эволюцию литературных родов, подчеркивал, что они постоянно скрещиваются в отдельных жанрах, что зачатки одного рода возникают внутри другого: "Во всех гомеровских поэмах чувствуется остаток лирической поэзии и зачатки поэзии драматической" * .
* (В. Гюго. Избр. произв. Т. 2. М., 1952, стр. 492. )
Развивая теоретические положения Гегеля и романтиков, В. Г. Белинский рассматривал эту проблему в различных аспектах.
Исследуя классификацию родов с точки зрения разного отношения поэта к действительности, Белинский писал, что "эпическая поэзия есть по преимуществу поэзия объективная, внешняя, как в отношении к самой себе, так и к поэту и его читателю. Лирическая поэзия есть, напротив, по преимуществу поэзия субъективная, внутренняя, выражение самого поэта. Здесь личность поэта является на первом плане, и мы не иначе, как через нее, все принимаем и понимаем" * . Драматическая поэзия представляет собой "слияние (конкрецию) этих крайностей в восприятии мира в живое самостоятельное третье" * .
* (В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 10. )
Белинский разграничивал особенности содержания, каждого рода: эпос связан с изображением событии в жизни народа и общества, лирика - с выражением чувств и настроений личности, драма - с раскрытием характеров людей, их развитием и выявлением в событиях напряженной борьбы.
Он видел различие родов и с точки зрения времени изображаемых в произведении жизненных явлений. В эпосе изображаются события прошлого; в лирике выражаются чувства, которые именно в этот момент - в настоящее время - волнуют автора; в драме действие развивается перед глазами зрителя от настоящего к будущему.
Белинский обращал внимание и на различный объем произведений различных родов. Лирическое стихотворение должно быть предельно сжатым. Объем эпоса зависит от объема событий, в нем воспроизводимых. Драматическое произведение ограничено временем театрального представления, для которого оно предназначается.
Теория литературных родов, выдвинутая В. Г. Белинским, взята за основу в советском литературоведении. Однако развитие литературы, ее связи с другими областями искусства определили существенные дополнения и поправки к созданной более ста лет назад и не утратившей еще и сейчас своего значения теории Белинского.
Так, некоторые исследователи считают основными родами литературы два - лирику и эпос, другие, напротив, дополняют три основных традиционных рода новыми. Например, В. Днепров стремится обосновать необходимость выделения романа как особого четвертого литературного рода * .
* (См.: В. Днепров. Проблемы реализма. Л., 1960. )
В исследованиях Я. Эльсберга содержалось требование признать сатиру в современных условиях таким же самостоятельным родом, как лирика и эпос, поскольку в ней ярко выступает особый идейно-художественный принцип изображения действительности * . Более того, Я. Эльсберг считает, что "сатира обладает как бы двойным гражданством", сочетая в себе признаки эпоса и лирики, а также публицистики ** .
* (См.: Я. Эльсберг. Вопросы теории сатиры. М., 1957, стр. 27. )
** (См.: Я. Эльсберг. Вопросы теории сатиры. М., 1957, стр. 32. )
Скрещивание особенностей двух родов обнаруживается в произведениях лиро-эпических, которые некоторые исследователи (Л. И. Тимофеев, Ф. М. Головенченко и др.) рассматривают, не без оснований, как самостоятельный род.
Ряд литературоведов склонны выделять в качестве самостоятельных родов научно-фантастическую беллетристику и художественную публицистику; в исследованиях искусствоведов настойчиво подчеркивается, что кинодраматургия - это новый род литературы.
При отсутствии в современном литературоведении унифицированной классификации, представляется целесообразной следующая система разграничения литературных произведений по родам. Прежде всего необходимо выделение тех групп произведений, в которых слово продолжает занимать не только ведущую, но и единственную роль в создании образов. Это собственно литературные роды - эпос, лирика и лиро-эпический. От них во многом отличаются смежные литературные роды, в которых образы создаются органическим слиянием слов с другими средствами художественной выразительности (мелодия, движение, краски и пр.). свойственными близким к литературе областям искусства.
Некоторые из смежных родов, например, драму, по традиции, идущей еще от Аристотеля, включают все в ту же известную триаду литературных родов, что резко сужает, а порой и искажает верное представление об ее отличительных признаках. В то же время другие совершенно самостоятельные области искусства, такие, например, как кинодраматургия, необоснованно подгоняются под рубрику видов драмы, лишая ее своей специфики и самостоятельности. Многие вокальные и музыкально-драматические произведения также совершенно выпадают из поля зрения литературоведов, хотя в опере и оперетте, романсе и кантате слово играет не меньшую роль в создании образов, чем в водевиле, который изучается теоретиками литературы.
Со своей стороны мы полагаем, что рассмотрение смежных родов в теории литературы поможет сблизить ее с современной практикой искусства, значительно расширить представления о круге произведений, в которых образы создаются посредством слова, полнее и глубже раскрыть специфику тех областей искусства, которые приобретают все большее и большее значение в наше время.
Классификация произведений по видам и разновидностям, будучи подвижной, отражает характерные изменения в литературном процессе. Забвение одних форм, эволюция других, зарождение новых - все это обусловлено изменениями в содержании, но в то же время определяется и литературно-эстетическими взглядами художников. В каждом творческом методе, направлении интенсивно развиваются одни виды и разновидности и "угасают" другие. Поэтому эволюция жанровых форм выявляет также ведущие тенденции литературного процесса.